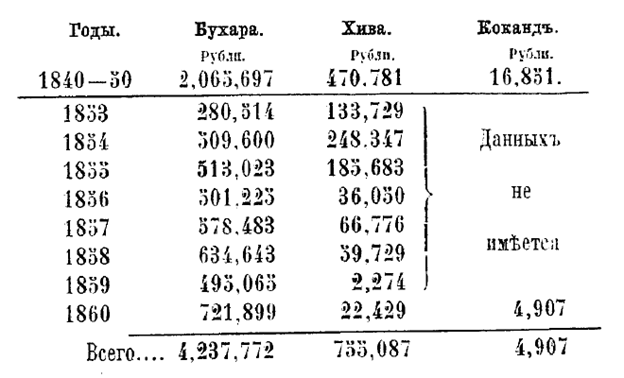ОЧЕРКИ СРЕДНЕЙ АЗИИ
А. ВАМБЕРИ
Оглавление.
Предисловие
I.
Дервиши и хаджи
II.
Мое инкогнито
III.
Среди туркменов
IV.
В туркменской пустыне
V.
Палатка и её обитатели
VI.
Хивинский двор
VII.
Радости и горе
Родины
Брак
Смерть
VIII.
Дом и двор, пища и одежда
IX. Из Хивы в Кунграт и
обратно
X. Мой татарин
XI. Столичная жизнь в Бухаре
ХII.
Бухара опора ислама
ХIII.
Торговля невольниками и жизнь невольников в Средней Азии
XIV. Производительность трех
ханств
Растительное царство
Животное царство
Минеральное царство
XV. Древнейшая история Бухары
Бухара и её окрестности
Бухара, главный город
Окрестности Бухары
Королева Хатун и первые
четыре аравийских полководца
Тугшаде и Моканна
XVI.
Этнографические очерки
туранских и иранских племен Средней Азии
1. Восточные турки
А. Типы и нравы
a) Буряты
b) Киргизы
c) Каракалпаки
d) Туркмены
е) Узбеки
Б. Характеристика
2) Иранцы
Восточные иранцы
a) Сеистанцы или хафизы
b) Чихар-Аймаки
c)
Таджики
XVI.
Литература в Средней Азии
Ахмед и Юссуф
Требования Юссуфа от
Гюзель-Шаха
Аллах яр
Рефнак
Мешреф
Фуцули
Неземи
Неваи
Как Зейф-уль-Мулук
отправляется из города Тшин к морю
История Кугула
ПРЕДИСЛОВИЕ
Европейская и американская
прессы в приговоре своем о моем «Путешествии по Средней Азии» почти все
единогласно упрекают меня в скупости и краткости описаний, одним словом,
говорят, что я мог бы гораздо более сказать о моем путешествии от Босфора до
Самарканда, так богатом разными случайностями и приключениями. Сознаюсь, что
упрек этот небезоснователен. Возвратясь из моих многолетних странствований по
Азии, я долго не мог освоиться с мыслью об оседлой жизни, особенно же в первые
три месяца моего пребывания в Лондоне, когда я именно написал мои воспоминания.
Мне все казалось, что опять надо будет подниматься и пускаться дальше в путь с
моим караваном, а поэтому я сделался нерешителен и работал спешно. Немудрено,
следовательно, что я, выступив впервые на литературном поприще с описанием
путешествия, о многом намеренно сказал только вскользь и многое опустил вовсе,
как менее интересное. Чтобы поправить эту ошибку — если скупость на слова есть
ошибка — я в последние три года, в часы, свободные от моих Филологических
занятий, написал предлагаемый здесь главы в вид дополнения к сказанному уже
мною, частию о моих путевых приключениях, частию о нравах и этнографических
особенностях жителей Средней Азии. Конечно, лучше бы было, если бы листки эти
вошли в состав главного моего сочинения, но я того мнения, что, и отдельно
взятая, каждая заметка о крае, орошаемом Оксусом, как бы ничтожна она ни была,
всегда будет иметь свою цену, и потом мне казалось, что «megiio tardi che mai»
(Лучше поздно, чем никогда.) .
Арминий Вамбери. Пешт. Декабрь 1867 года.
Дервиши и хаджи
Дервиш представляет собою
олицетворение главных характеристических черт восточной жизни: праздность,
фанатическая мечтательность, раболепие, поразительная беззаботность — его
символы. Все это восхваляется в нем как добродетели и, как о таковых, сам он
проповедует о них повсюду. Праздность оправдывается немощностью человеческой,
болезненная игра воображения — вдохновением свыше, раболепие — рождением от праха,
а беззаботность — всемогуществом рока, управляющего людьми. Если бы преимущества
нашей европейской цивилизации не выступали так блистательно пред восточною, я
бы, кажется, готов был позавидовать дервишу — тому блаженству, которое светится
в его глазах, когда он, в своих лохмотьях, сидит, приютившись на корточках в
уголке какой-нибудь развалины. Что за невозмутимый покой в чертах его лица, во
всей его фигуре; и какой резкий контраст с нашею европейскою жизнью! Эта
противная моей природ безмятежность почти постоянно раздражала мои нервы в моем
дервишеском инкогнито и естественно, что, подделываясь под нее, я часто делал
огромные промахи. Никогда не забуду, как раз в Герате, наэлектризованный
радостной мыслью о близком избавлении, я вскочил со своего места и начал
стремительно ходить из угла в угол по развалине, в которой приютился. Через
несколько минут заметил я, что у входа собралась целая толпа народа и с
удивлением глазела на меня; я остановился и со стыдом уселся на свое место; ко
мне подошли и начали осведомляться о моем здоровье: добрые люди сочли меня за
помешенного, так как, по восточным понятиям, надо быть не в своем уме, чтобы без
крайней необходимости встать с места и начать ходить по комнате. Дервиши служат
представителями не только восточной жизни вообще, но и всех оттенков различных
отдельных народностей востока. Хотя закон и гласит, что «Ислам есть один народ»,
тем не менее, в каждом отдельном орден нельзя не узнать его происхождения и его
родины. Бекташи, мевлеви и руфаи имеют своим местопребыванием преимущественно
Турцию, так как Бекташ, вдохновенный основатель янычарства, и мулла
Джелаледдин-Руми — великий поэт, автор «Месневи»— действовали в Турции и там же
погребены. В Аравии большею частию встречаются кадри и джелали, в Персии —
овеизи, нурбахши-ниметуллахи; в Индии—хилали и сахиби а в Средней Азии —
накишбенди и софи (Этот орден основан лет 30 тому назад одним таджиком из Белха
для противодействия все более и более возраставшей сил ордена накишбенди. Члены
этого братства встречаются большею частию по сю сторону Оксуса, около Герата, а
также между туркменами, и носят для отличия от другиих войлочные щапки опушевныя
мехом) ислам Члены каждого ордена связаны между собою крепкими узами братства,
мюриды (ученики) и кхалфы (сочлены) слепо повинуются своему пиру (главе),
который может вполне распоряжаться и имуществом их, и жизнью; но корпорации эти
совершенно далеки от преследования каких бы то ни было тайных политических или
социальных целей, как это им приписывается в Европе со слов некоторых рьяных
путешественников, которым кажется, что они открыли масонов и среди бедуинов
Великой пустыни. Дервиши — это монахи Ислама; происхождением своим и
существованием они обязаны Фанатичной религиозности, и отличаются между собою
только наружным проявлением своего благочестия. Один орден, например,
предписывает своим членам постоянное хождение на поклонение могилам святых,
другой — постоянное памятование о бесконечном величии Божием и о смешной
ничтожности человеческого бытия, а третий заставляет своих учеников денно и
нощно заниматься сикрами (произношение имени Божия) и телкинами (гимнами). Часто
иной ревностный ученик до тех пор выкрикивает изо всех сил «Я ху! Я хак! Ла
илахи илла ху!) пока с большинство м соучастников не сделается припадков падучей
болезни. У правоверных это болезненное состояние носит название «медшцуб», что
значит: пришедший в восторг, восхищенный божественной любовью. Человеку,
которому выпадает на долю такое счастье, все завидуют; больные/увечные,
неплодные женщины теснятся к нему, хватаются за его одежду, ибо прикосновение к
нему считается исцеляющим от всех болезней. В Самарканд я сам был свидетелем
того, что могут проделывать дервиши, придя в экстаз. В Дехбиде, близ могилы
Махдум-Аазама, собралось раз такое общество крикунов и, усевшись в кружок около
своего пира, начало выкрикивать обычные свои возгласы, сначала тихо и соблюдая
нечто в род такта. Пир, между тем, сидел погруженный в глубочайшее раздумье,
слегка покачивая головой. Окружающие следили за ним с напряженным вниманием и с
каждым движением его головы, с каждым его вздохом, одушевление их все росло.
Наконец пир, казалось, вышел из своего полудремотного состояния и поднял
опущенную на грудь голову. Едва только увидали это дервиши, как сумасшедшие
вскочили они со своих мест. Кружок разбился и все по одиночке принялись
подпрыгивать, раскачиваясь всем телом. Когда же пир поднялся совсем на ноги, то
одушевление плясунов перешло в такое бешенство, что я, невольно принужденный
участвовать, внутренне, содрогнулся от ужаса. Точно вихрем кружимые, все
носились сломя голову, то вправо, то влево с мягкого луга многие попали на голые
камни, с ног несчастных побежала кровь, — все-таки они странно продолжали
плясать, пока некоторые не повалились наконец без чувств на землю. При таких
социальных отношениях, какие существуют на востоке, где крайности так сходятся,
дервиш или, что то же, нищий, стоящий на последней ступени общественной, должен
пользоваться и самом деле пользуется таким же уважением, как любой властитель,
стоящий во главе целых миллионов людей и располагающий громадными сокровищами.
Человек, этот легкий мяч в могучих руках судьбы, может в одно мгновение ока быть
перемет из одной крайности в другую, чему, впрочем, есть много примеров в
истории. Как у поа?? оба антипода—шах и геда, т. е. король и нищий, постоянно
один подле другого, так и в настоящей жизни находим мы часто оборванного,
грязного, покрытого насекомыми дервиша сидящим рядом с блистающим в своем
великолепном одежде (ханом на одном и том же ковре, дружно с ним беседующим и
нередко пьющим даже с им из одной и той же чаши. Европеец посмотрит с удивлением
на подобное tête-a-tête, иной, пожалуй, с удовольствием, а житель Востока не
видит в этом ничего необыкновенного. Князь как гласит, по крайней мере, мораль —
смотря на собеседника, должен вспоминать о ничтожности своего земного величия и
воздерживаться, следовательно, от гордости, а дервиш, со своей стороны, видя,
что под пышными одеждами скрывается такой же смертный и, помня бренность
человеческую, должен смеяться над призрачным, обманчивым величием земным.
Правила эти хорошо известны и тому я другому, а потому и король и нищий, эти две
крайности, встречаются друг с другом с величайшею терпимостью и
снисходительностью. Наедине, в комнате, дервиш держит себя с своим повелителем,
как задушевный приятель его; перед народом же, при торжественном случае, но
забывает своего настоящего места—беднейшего из бедных. За то и знатный терпит от
дервиша, что другому показалось бы невыносимым. Например, в Керки, во дворце
начальника провинции поместился дервиш, на которого по предписанию ордена была
возложена приятнейшая обязанность с заката солнечного до восхода неумолкаемо
кричать и непременно громко: «Я ху! Я хаки Ла иллахи иллаху !» ( Да, это Он и Он
— Справедливый! Нет другого Бога, кроме Его!) Однообразный, заунывный крик
начинался ежедневно с наступлением сумерек и, по мер стихания городского шума,
разносился все громче и громче по окрестностям, не говоря уже о самом дворце.
Понятно, что эти возгласы многим мешали спать, но, несмотря даже на просьбы
семейства своего, губернатор ничего не мог сделать и дервиш продолжал кричать во
все время пребывания своего в Керки. Так как я жил не вдалеке, то и мне
приходилось наслаждаться этим концертом; по голосу вдохновлённого крикуна,
постепенно ослабевавшему к утру, я мог узнавать о приближении рассвета, не
выходя из своей темной кельи. Впрочем, в настоящее время трудно найти дервиша в
полном значении этого слова, т. е. человека по внутреннему убеждении отрёкшегося
от мирских благ и житейских удовольствий — такого, каким описывают, напр.,
гениального поэта Саиди. Дервишами теперь по большей части делаются лентяи и
записные нищие, которые под покровом бедности набирают капиталы и, разбогатев,
пускаются в торговый предприятия. Так бывает обыкновенно в Персии. Пока
благоприятствует фортуна, жизнь идет с великолепием и пышностью, доходящею до
смешного, и о тленности земной помина нет; но лишь несчастие коснется такого
человека, он тотчас же принимает на себя личину смирения, с презрением осмеивает
суетные стремления людские и с видом самодовольства восклицает: «Мен дервиш ем!)
(Я дервиш).
Чем дальше на восток, тем
первобытнее сохранились все восточные учреждения, нравы и обычаи. Так и дервиши
в Персии имеют уже более важное значение, чем в Турции; а в Средней Азии, где
вследствие многовековой разобщенности ничто не изменилось, они, являются во всем
блеске своего первоначального установления и оказывают громадное влияние на все
социальные отношения. О круге действия ишанов (светского духовенства) я
неоднократно поминал уже в моем «путешествии». Влияние их на ужасающий азиатский
произвол и на тиранию можно назвать, благодетельным. Так как там религия имеет
большое значение, то каждый стремится приобрести санели-керамет (делателя
чудес), или, если это невозможно, звание вели-улла (святой). Улемы, кичащиеся
званием объяснителей писания, постоянно соперничают с ишанами, пользующимися
большим уважением народа, благодаря таинственности, которою они облекаются.
Среднеазиата, как самого дикого сына Азии, легче привлечь к себе волшебными
изречениями и другой внешнею торжественною обрядностью, чем книгами; без муллы
он легко может обойтись, между тем как ишан ему необходим: фатиха
(благословение) или дыхание ишана составляет для него вернейший талисман и в
палатке, и в пустыне, и в разбойничьем набеге, и когда он пасет свое стадо.
После ишанов не менее
интересное явление представляют странствующие, нищенствующие дервиши— калентеры
(Калевтер произошло от древнеперсидского келантер (старший). Этим именем и
теперь называют в восточной Персиии деревенских судей), известные у киргизов и
туркменов под именем кудушей пли диванов (сумасшедших). Только одни они, в своих
лохмотьях, могут беспрепятственно бродить по необозримой пустыне от восточных
границ Китая до Каспийского моря. Им нет никакого дела до различия племен,
родов; могучий лозунг «яги, или ил?» (друг или враг?) для них не существует, они
на пути своем присоединяются к первому встречному — будь это мирный караван, или
дикая разбойничья шайка. Дервиши, бродящие по киргизским или туркменским степям,
принадлежат большею частью к таким людям, которые, по особенной наклонности к
ничего не деланию, обращаются к нищенскому ремеслу, считаемому во всей Азии
делом почтенным. От людей этих требуется только знание нескольких молитвенных
изречений и своего рода мимика, с помощью которой выделываются все Фокусы
хиромантии. Я ни разу не встречал ни одного кочевника, который бы оставался
равнодушным при встреч с босоногим дервишем, косматым, с непокрытою головою,
подставляющим ему свою кешкуль (Кешкуль называется овальный сосуд, сделанный из
кокосовой скорлупы, неразлучный спутник всякого дервиша. В него набираются
подаяния пищей, жидкой и сухой, холодной и горячей, кислой и сладкой. Гастронома
эта смесь не прельстила бы, но как вкусна она казалась мни после длинного
дневного перехода), насквозь пронизывающим своим огненным взглядом простодушного
сына пустыни и дико ревущим ему на встречу свое «я хуи» Прибытие такого факира в
кочевье считается всегда праздником, радостным событием; особенно важно оно в
глазах женщин и девушек. Даже самый час прибытия его имеет значение: если пришел
он утром, это предвещает благополучное рождение верблюда или лошади, если в
полдень— ссору мужа с женой, а вечером—отважного жениха взрослой дочери. Тотчас
по приходе, дервишем овладевают по большей части всегда женщины; они угощают его
всем, что есть у них лучшего, всеми лакомыми кусочками, в надежде, что вот вот
он вытащит из под своих лохмотьев стеклянную бусину, или иной желанный талисман.
Подаяния получает он не деньгами—это у номадов не в обычае—а натурою: ему дают
старый: войлочный коврик, несколько пригоршней верблюжьей шерсти, а иногда даже
какую-нибудь старую одежду. Дервиш гостит по нескольку дней в одной семье,
перекочевывает вместе с нею, и, несмотря на это, им никто не тяготится. Если он
музыкант, т. е. знает наизусть несколько песен и умеет себе аккомпанировать на
дутаре (двухструнном инструменте), то его просто носят на руках и в таком случае
вырваться ему бывает довольно затруднительно. Чрезвычайно редко случается, чтобы
дервиша оскорбили или обидели; дозволить себе это могут, как говорят, разве
только одни туркмены, которые по своей безграничной алчности не знают ничего
святого, способны на всякую жестокость, которую только можно себе вообразить.
Один черноволосый, здоровенный дервиш из Бухары, которого я встретил в Маймене,
рассказывал мне, как взял его в плен какой-то текке-туркмен, соблазнившийся 30
дукатами, которые он, судя по сложению пленника, надеялся выручить, продав его в
неволю. «Я вел себя», продолжал рассказчик, как будто дело вовсе до меня не
касалось и продолжал под звук цепей свои обычные сикры и молитвы. Приближалось
уже время вести меня на рынок, как вдруг захворала жена моего разбойника; это
помешало нам отправиться. В болезни жены он увидел перст Божий и начал уже
призадумываться, а тут захворала еще любимая его лошадь и перестала даже корм
брать». Этого было довольно. Испуганный туркмен тотчас же расковал своего
пленника, отдал ему отнятые у него вещи и просил как можно скорее оставить его
палатку. Пока туркмен с нетерпением ожидал ухода своего зловещего гостя, этот,
перебирая свою сумку, заметил, что в ней не доставало гребня, того самого
гребня, который он получил от своего пира в вид талисмана на дорогу, и без
которого он шагу сделать будто бы не мог. Смущенный туркмен бросился с быстротой
стрелы к тому месту, где лежали вещи дервиша, но после долгих поисков ничего не
нашел; в большом страх начал он именем Божиим просить дервиша отойти хоть на
один шаг от палатки, за что обещал дать ему столько денег, сколько стоят
двадцать гребней. Хитрый бухарец, видя, что фонды его поднялись, принял вид, что
ничто не могло его утешить, и уверял, что принужден теперь остаться в палатке на
целый год. Можно себе представить в какое отчаяние это привело суеверного
бандита! Как сумасшедший, он бросился к соседям за советом. Вступили с дервишем
в переговоры, которые кончились тем, что дервиш получил за свой гребень,
который, мимоходом сказать, был у него в кармане, лошадь, одежду и десять
дукатов наличными деньгами и распрощался с палаткой. Полагать надо, что туркмен
этот не скоро опять решится напасть на странствующего дервиша. Что касается до
хитрости, знания всяких волшебств и заклинаний, то этим отличаются на всем
восток индийские дервиши, преимущественно же кашмирские. Люди эти бессовестно
пользуются легковерием народа в Персии и Средней Азии; по временам, и умные,
образованные люди попадают в их сети. Куда бы ни пришел такой кашмирец— а у них
по большей части очень внушительная осанка, черные огненные глаза, длинные
развевающиеся волоса, выразительные черты лица — он вперед уверен уже в победе.
Магометане Индии и соседних к востоку стран искони знамениты во всем
магометанском мир своими волшебствами. За исцелением болезней, изгнанием духов,
отыскиванием кладов всегда обращаются к одному из таких захожих святых, которые,
не смотря на то, что искусство их считается запрещенным по законам Ислама,
являются везде, как самые ревностные магометане. Граф Гобино в своей книг «Trois
ans dans» рассказывает про одну отличную штуку, которую сыграл один алхимик из
Кашмира с каким-то златолюбивым принцем в Тегеране. Подобная же потешная история
случилась и с братом нынешнего хивинского хана, желавшим превратить всю свою
конскую сбрую в золото. Но кашмирцы не ограничиваются подобными обманами и часто
бывают на столько бессовестны, что выманивают последнюю копейку у бедняка. В
Тегеран мне со слезами рассказывал один хаджи, недавно возвратившийся из Средней
Азии, следующую историю: «Так как в Мешхеде много говорили о частых разбоях по
дорог к Тегерану, то я и товарищ мой сильно были озабочены, куда бы лучше
спрятать наш небольшой капиталец, который мы в течение пяти лет собирали на
путешествие к гробу пророка, ибо, ты знаешь, в Персию, эту еретическую страну,
без денег идти невозможно. О затруднении нашем мы сообщили одному ишану из
Кашмира, жившему рядом с нами в караван-сарае, и были весьма обрадованы, когда
он предложил нам молитвенным заговором обезопасить наши деньги от разбойничьих
рук. Пригласив нас в мечеть Имам-Ризас, он приказал нам сначала совершить
омовение, потом положить деньги на его колена, затем подул на них несколько раз,
собственными руками положил их снова в наши кошельки и, завернув в семь бумажек,
строго приказал не развертывать их, пока мы не придем в Тегеран и не совершим
троекратной молитвы в мечети. Уже шесть недель как мы вышли из Мешхеда.
Представь же, каков был наш ужас, когда мы вчера, после третьей молитвы, раскрыв
кошельки, нашли в них вместо дорогих наших дукатов какой-то красноватый тяжелый
песок — и только». Бедняки сопровождали рассказ душераздирающими воплями и,
казалось, с ума сходили от горя. Они по простоте своей не заметили как продувной
кашмирец во время самого благословения подменил их деньги ; пропутешествовав в
полной уверенности, что дукаты их будут целы, они дорого поплатились за эту
уверенность.
К дервишам близко подходят святоши, которые, прикрываясь священным долгом,
предаются своей страсти к путешествиям и проходят страны и целые части света,
чтобы, возвратясь домой, приобрести титул хаджипоклонников, а вместе с тем
почет и положение в обществе. В Коране сказано: «Ходите на поклонение к моему
дому (Кааба), если обстоятельства позволяют вам». Толкователи закона подводят
эти обстоятельства под семь условий: 1) достаточные денежный средства для
путешествия; 2) телесное здоровье; 3)быть не женатому; 4) не оставлять дома
долгов; 5) отправляться в мирное время, 6) по суше и не подвергаясь опасностям;
7) быть совершеннолетним, т. е. иметь более 15 лет. Кто имеет хотя
приблизительное понятие о странах, лежащих между Оксусом и Яксартом, тот легко
поймет, что добрые татары вовсе не заботятся о соблюдении этих условий. В Персии
только тогда ходят на поклонение в Кербелу, Мешхед или Мекку, когда есть
достаточно денег для того, чтобы путешествие не лишено было удобств; в Средней
же Азии, на против, на богомолье ходят только самые беднейшие люди — на такое
дальнее и опасное путешествие с дальнего востока ко гробу своего пророка
побуждает среднеазиата только особая склонность к приключениям, к которой
примешивается малая доля религиозного рвения. Правда, материального убытка они
понести не могут, ибо страннический посох весь их капитал, но за то часто они
рискуют самым дорогим — своей жизнью, ибо из туркестанских богомольцев ежегодно,
по крайней мер одна треть падает жертвою тяжелых климатических условий. Страсть
к путешествиям, со святою ли, мирскою ли целью, при сознаний всех опасностей;
решимость покинуть семью, родных, соотчичей и идти в неведомую далекую страну —
это то все и сообщает личности хаджи какое-то романтическое обаяние. Целые
недели прожил я уже с своими товарищами, а все-таки постоянно меня поражал
бодрый вид, с каким они шли по глубоким пескам и по болотам, опираясь на свой
пальмовый посох—священное воспоминание Аравии. Они уже возвращались домой; но
сколько хаджи я видел, которые еще были только в начале своего долгого пути и
шли с не меньшею бодростью! На пути из Самарканда к Тегерану со мною вместе шел
один китайский татарин, который был в полнейшем неведении относительно
отдаленности той страны, куда он шел; когда мы еще недалеко отошли от Мешхеда,
он каждый вечер спрашивал меня: «завтра или послезавтра мы придем в Мёкку бедняк
и не догадывался, сколько ему придется еще пострадать, прежде чем он достигнет
цели! Впрочем, это не должно нас удивлять, ибо во время крестовых походов многие
благородные тевтонцы, пустившись на защиту святой земли и пройдя лишь несколько
дней, уже искали на горизонт башни иерусалимские. Благочестивые татары следуют в
Аравию обыкновенно по одному из следующих четырех путей: 1) на Яркенд, Килиан
Тибет и Кашмир; 2) через южную Сибирь, Казань и Константинополь, 3) через
Афганистан, Индию, на Джедду; 4) через Персию, Багдад и Дамаск. Из всех четырех
путей ни один не удобен, а большее или меньшее количество опасностей на том или
другом зависит от времени года и политических обстоятельств. Путешественники
собираются обыкновенно небольшими иногда и большими обществами, из среды себя
выбирают начальника — чауша; он в то же время должен быть и имамом и
пользоваться некоторою властью. Главную цель богомолья составляет не кааба и не
гроб Магомета (к которым отправиться можно во всякое время), а гора Арафат, на
которую восхождение совершается только раз в год, в день малого байрама (10-го
дзул-гедше); там происходить представление в лицах жертвоприношения Авраама. Все
это и составляет собственно хадж, и настоящим хаджи называются только
участвовавшие в этом торжестве, т. е. присоединявшие свои голоса к возгласам
лебейк-аллахум!) (повели, о Боже!) в воспоминание о примерной покорности
Авраама. Эти восклицания составляют торжественнейший момент для богомольца и,
как кажется, производят на него самое сильное впечатление: мои спутники всегда
вспоминают о них в минуты воодушевления и весёлого настроения духа, м крики:
«лебейк»! — воспоминание о каменистой Аравии,— часто нарушал безмолвие татарских
пустынь. Если и надрывается сердце у хаджи при расставании его с домашним
очагом, — да и может ли быть оно иначе, когда пускаешься в такой дальний и
опасный путь, — зато как безгранична радость, которая встречает его по
возвращении домой! Извещенные о его прибытии родственники спешат ему на встречу
на несколько дней пути; он вступает в родной город среди радостных слез и пения
гимнов; все спешат его обнять, прикоснуться к нему, потому что он не отряхнул
еще праха Мекки и Медины со своей одежды, потому что от него веет еще ароматами
священного места! В Средней Азии хаджи пользуется несравненно большим почетом,
чем в остальных магометанских странах, и вполне вознаграждается за понесенные
труды. Сильный уважением и поддержкой общества, он более всякого другого защищен
от произвола и тирании; приобретенный им титул — дворянскую грамоту свою, при
жизни он носит на печати, а по смерти им украшается могила хаджи. Хотя религия и
запрещает заниматься торговлею во время богомолья (Hem Ziaret hem tidscharet),
тем не менее хаджи (разумеется, исключая тех, у которых нет ничего, кроме
посоха) не считают великим грехом переправить с собою кой какие мелочи из
дальнего Туркестана своим аравийским единоверцам. А это дело выгодное, во первых
потому, что произведения благородной Бухары и других священных мест Средней Азии
высоко ценятся, во вторых потому, что желание оказать благодеяние хаджи
заставляет платить ему за все вдвое. Мелочной этот торг ведется по всему
протяжению от восточной окраины магометанской Азии до Стамбульского конца
Галатскаго моста, где вы очень часто встретите татарина и непременно заметите
его, не смотря на известную всему свету пестроту тамошней толпы, потому что
черты его лица также не похожи на окружающих, как не похожи краски дешево
продаваемого им тонкого шёлкового платка на краски остальных платков. Щеголихи
редко. покупают что-нибудь у такого татарина; за то вы часто можете видеть
какую-нибудь почтенную матрону, которая, заплатив из благочестия хорошую цену,
крепко прижимает купленный платок ко лбу, к лицу, и отходить от торговца, громко
бормоча обычный с «аллахум селла!» Удачный сбыт вывезенных товаров поощряет
естественно к ввозу, и поэтому ни один хаджи не уходит из святых мест, не сделав
маленьких закупок для родины. В Меке и Медине он покупает благовония, финики,
четки, гребни и, главным образом, цемцемскую воду в Ямбу ( Цемцем — название
находящегося на пути, весьма почитаемого колодца. Вода его, о чудодейственной
силе которой ходит много рассказов, разносится в маленьких сосудах по всем
магометанским странам, ибо одной капли её, принятой перед смертью, довольно,
чтобы на 500 лет сократить адския мучения. Происхождение колодца приписывают
Измаилу, брошенному Агарью: маленькою ножкою своей он ударил в землю и из неё
истекла вода.) и Джедде—европейские галантерейные товары. Но так как у неверных
френгов ничего хорошего быть не может, то товары эти называются мали-истамбуль
(стамбульскими товарами); состоят они из перочинных ножей, ножниц, иголок,
наперстков н т. п. Алеппо и Дамаск славятся лучшим мисваком — волокнистым
корнем, зубную щетку из которого вы найдете у каждого благочестивого
магометанина. В Багдад покупают хирку из верблюжьей шерсти, ибо здесь это платье
(его носил, как уверяют, сам пророк, не надевая под него рубашки) делается
лучше, чем где либо. Наконец, из Персии хаджи берут с собою несколько сухих
чернил и тростниковые перья. Все поименованные товары чрезвычайно редки в
Средней Азии и оплачиваются весьма хорошо, частью вследствие религиозного
чувства и частию вследствие крайней в них необходимости. Вообще караваны хаджей,
разумеется благонадежные, лучшие спутниеи не только по Средней Азии, но почти по
всему востоку, если только ничем не будешь выделяться из них. На счет всего, что
может понадобиться в дороге, хаджи всегда снабжен лучше других; меня постоянно
изумляло, что у иного, имеющего в своем распоряжении одного какого-нибудь
несчастного ослика, по прибытии на стоянку оказывался и ковер и вся посуда для
чая и другая посуда для пилава. Никто лучше хаджи не сумеет вести себя при
столкновениях на пути с разно роднейшими элементами: с кочевниками, и с
оседлыми, и с правоверными, и с неверными. Из хаджи можно все сделать, ибо он до
мозгу, костей проникнут принципом «Si fueris Romae». Печальный и угрюмый по
наружности, он редко бывает таков на самом деле, в пути же он особенно весел; в
хорошем расположении духа эти святые и делатели чудес не прочь от мирской шутки,
причем их в иное время серьёзные физиономии делаются так комичны, что я не
редко, благодаря им, забывал самые горестные передряги.
Мое инкогнито.
ВечКроме27 марта 1863 года
благородный виой покровитель, турецкий посланник в Тегеран давал мне прощальный
пир. Бывшие на нем, желая меня застращать и заставить отказаться от задуманного
мною предприятия, говорили мне, что я в этот вечер в последний раз в своей жизни
наслаждаюсь европейскою пищей на европейский манер. Красивая столовая
посольского дома сияла огнями, на стол стояли отличнейшие яства, были поданы
лучшие вина — все было рассчитано на то, чтобы мне на моем многотрудном пути
было чем вспомнить о европейском комфорте. Друзья всматривались в мое лице,
думая найти на нем следы внутренней тревоги, но они сильно ошиблись: я в полном
довольствии сидел, погрузясь в мягкое бархатное кресло, а лицо мое, благодаря
винам далекой земли Франков, приняло почти один цвет с бывшею на голов феской.
Благочестивый дервиш и.... вино — какое странное сопоставление! Впрочем, в тот
вечер можно было порядком — и — погрешить, потому что впереди предстояло долгое
покаяние. Двадцать четыре часа спустя, т. е., 28 марта вечКромея был уже на
дорог в Сари и сидел в полуразвалившейся глиняной мазанке среди нищенствующих
моих спутников. Дождь лил ручьями сквозь крышу. Промокши уже порядочно в течение
дневного перехода, всякий из нас жался в уголок хижины, остававшийся сухим; но
так как местечко это было очень невелико, то мне пришлось с первого же дня войти
в теснейшее соприкосновение с товарищами моего путешествия. Лохмотья,
составлявшие их одежду, и в сухом виде не отличавшиеся особенным благоуханием,
теперь, размокши, испускали неимоверные испарения, так что не удивительно, что я
не имел ни малейшей охоты присоседиться к большому деревянному блюду, из
которого проголодавшиеся хаджи руками таскали свой ужин. Впрочем, меня мучил не
столько голод, сколько усталость и непривычка носить мокрую, изодранную одежду.
Свернувшись клубком, я попробовал было заснуть, но и это оказалось невозможным:
один из спящих клал на меня свою голову, другой — руку, а
vis-a-vis
мой, вытягивая ногу, попадал мне ею прямо в лице. Я переносил все с терпением
Иова и вероятно ухитрился бы заснуть, если бы к этим неприятностям не
прибавилось еще оглушительное храпение лежащих вокруг меня и стоны несчастного
персиянина, погонщика мулов. страдавшего ломотою в костях. Видя, что все усилия
мои бесполезны, я встал и уселся посреди этой беспорядочно наваленной кучи
спящих. Дождь не переставал. Вглядываясь в окружавшую меня темноту, я вспомнил о
том, что было сутки тому назад, о великолепном пире в роскошном доме турецкого
посольства, и показалось мне, что все происходившее вокруг меня было ничто иное,
как сцены из пьесы «король и нищий«, в которой я играл главную роль. Впрочем
горечь настоящего положения чувствовалась не очень сильно, потому что я сам
добровольно избрал эту участь и сам был причиною внезапного превращения. Чтобы
превозмочь себя и войти совершенно в роль, достаточно было нескольких дней, а
после этого ничего уже не стоило освоиться со всеми атрибутами жизни дервишей —
грязью и тому подобным. Лучшее мое платье, взятое мною из Тегерана, я отдал
одному слабому, болезненному хаджи и этим приобрёл себе общее расположение. Мой
же наряд состоял из войлочной куртки, надетой прямо на тело без рубашки, и из
джуббьи (верхней одежды)( Одежда эта называется хиркаи-дервишан (плащ дервиша) и
носится даже самыми зажиточными дервишами поверх их хорошей одежды. Плащ этот
служит символом бедности и состоит из бесчисленного множества лоскутков, часто
даже новой материи, сшитых вместе. Нижний край его делается неровным, точно
оборванным; верхняя покрышка сшивается грубыми нитками и большими стежками, а
подкладка в тоже время делается из шелковой или другой ценной материи. Дальше
идти в лицемерии невозможно. Вероятно мудрецы востока задолго до римлян еще
знали, что mundus villi clecipi — ergo decipiatur.) состоявшей из бесчисленного
множества заплат и перехваченной вместо пояса веревкой. Ноги я себе обвернул
тряпками, на голову надел огромнейшую чалму, исполнявшую мне днем должность
зонтика, ночью — должность подушки; а на груди моей, как у всех хаджи, висел в
виде патронташа мешочек с довольно объемистым Кораном. Увидя себя в полной
форме, я мог с гордостью воскликнуть: «Да, я рожден быть нищим!» С внешней,
материальной стороною моего инкогнито я легко покончил, но моральная сторона
дала мне больше труда, чем я предполагал. Я имел случай изучать в течении
нескольких лет отличия азиатской жизни от западной; настоящее мое критическое
положение заставляло меня постоянно быть настороже, и, не смотря на все это, я
не мог избегнуть многих довольно грубых ошибок. Наше западное общество
отличается от восточного не только языком, чертами лица и платьем, но мы,
европейцы, едим, пьем, сидим, стоим, даже смеемся, плачем, вздыхаем, киваем —
все делаем не так, как жители востока. Эти, по-видимому, мелочи, на самом деле
очень тяжелы и — все-таки он были ничто в сравнении с той нравственною работой,
которая нужна для того, чтобы постоянно стараться скрывать свои чувства. В
путешествии человек находится в более возбужденном, напряженном состоянии, чем в
обыкновенной жизни, поэтому невозможно передать, какие нужны усилия, чтоб
удерживать перед вялым, вечно ко всему равнодушным жителем востока свое
любопытство, удивление и другие волнующие путника чувства. Кроме того, моя
личность имела интерес для моих спутников только в первые минуты нашего
знакомства, а их личности, напротив, служили для меня постоянным предметом
изучения, и ни одному из них конечно в голову никогда не пришло, что даже в
самые счастливые минуты, когда мы дружески болтали и шутили, я был занят двойною
работой: поддерживал беседу и в то же время изучал беседующих. Только на практик
знающий восточную жизнь может понять, как много труда мне стоило в начал
приладиться к новому быту. Конечно в четырехлетнее мое пребывание в
Константинополе я многому научился, но там я играл просто роль дилетанта, а
здесь ни на волосок нельзя было отступать от действительности. Да, я не скрою,
что в первые дни борьба была хоть и не продолжительна, но за то сильна;
раскаяние, угрызения совести терзали душу при всяком встречаемом затруднении,
но, по счастью, тщеславие не дало духу пасть в борьбе и, вспомоществуемое
здоровым моим организмом, помогло все победить, все перенести. И теперь еще
воспоминания о трудностях первых дней моего путешествия заставляют меня невольно
содрогаться. Много пришлось много перетерпеть от сырости, холода, нечистоты, от
которой волос дыбом становится, от вечной возни с мучителями фанатиками шиитами
во время нашего долгого, скучного перехода через Мазендран, исторически
известный своими отвратительными дорогами. Часто дождь шел сутра до вечера, и я,
измокши до последней нитки, должен был еще в продолжении целых часов идти по
колено в грязи. Узкая горная тропинка, порядком выбитая путниками в течении
нескольких сот лет, во многих местах походила на ручей грязи, по дну которого
торчали острые обломки скал. В седле усидеть не было никакой возможности,
поэтому во избежание опасности нужно было идти пешком, ногой исследуя дно;
оттого мы подвигались вперед весьма медленно. Понятно, что после такого
перехода, мы, вечером, придя на привал, бывали страшным образом утомлены и
измучены. Глаза томительно смотрели вокруг, ища кровли и огня. Того и другого в
Мазендран много, но мы — нищие сунниты—покоя ради предпочитали останавливаться
на ночь вдали от жилья шиитов. По приходу на стоянку прежде всего мы
раскладывали огонь, чтобы высушиться, но старшие годами из моих татарских
спутников находили, что этот способ вреден для здоровья и предпочитали ему
другой, бесспорно весьма оригинальный. Известно, что на восток лошадиный помет
высушивается, толчется и употребляется ночью вместо соломы на подстилку лошадям,
днем же он лежит рассыпанным или сгребенным в конусообразные кучи. Каково же
было мое удивление, когда я увидел, что мои товарищи раздевались до нага и
зарывались по шею в этот poudre de santé. Я думаю, излишне говорить, что
прикосновение к телу этого, как известно, довольно едкого порошка не особенно
приятно, — впрочем только в первые четверть часа; зато, как я впоследствии лично
убедился, эта непривлекательная для европейского глаза постель доставляет
сладкий, освежающий сон. Да, но при всем том я был бы в высшей степени доволен,
если бы судьба, кроме трудностей, общих всем путникам, не отпустила на мою долю
еще особой порции их. Как чужестранец, пришелец, я должен был выказывать ко всем
почтительность, даже покорность и стараться предупредительностью и мелкими
услугами пробрести любовь, как старых, так и молодых. Сначала многие отклоняли
мои услуги, ибо привыкли считать меня за эфенди и боялись оскорбить, но я, не
смотря на это, продолжал стараться быть всем полезным. Кроме мелких услуг во
время самого пути, я по приходе на стоянку помогал то тому, то другому в
приготовлении чая, в печении хлеба, в уборке животных, в нагрузке, разгрузке и
т. п. Иные отвечали мне тем же, другие, давно позабыв, что я эфенди, сами
требовали услуг и принимали их без малейшей церемонии. Я от души смеялся, как
раз один хаджи из Коканда передал мне свою рубашку, чтоб я изгнал из неё
непрошенных гостей; сам он занят был тою же работою только над другою частью
своего туалета. Само собой разумеется, что таким путем согласие между мной и
остальным обществом должно было все более и более увеличиваться и что, по мере
того, как я забывал прошлое и сживался с настоящим, должна была уменьшаться
стена, разделявшая меня от остальных хаджи. Общество повсюду и всегда оказывает
громадное влияние на личность: оно, так сказать, амальгамирует все разнородные
элементы, и я, прожив месяц дервишем, стал находить все сносным и естественным.
Новизна окружавшей меня жизни отогнала на дальний план воспоминания о Тегеране,
Стамбуле, Европе, а постоянное нравственное напряжение создало во мне какое-то
необыкновенное состояние духа, впрочем не неприятное. Было одно только чувство,
с которым я не так то легко мог сжиться, именно: страх быть узнанным, или, лучше
сказать, боязнь тех последствий, которые бы это за собой повлекло, — той
мучительной смерти, которую татарская жестокость и глубоко оскорбленный фанатизм
изобрели бы для меня. В первые же дни моего пребывания между туркменами я уже
ясно видел какую опасную игру я вел, приняв такое инкогнито и, не будь я твердо
убежден в непоколебимой верности моих спутников, не имей я веры в достаточность
собственной подготовки, страх мученической смерти ни на минуту не покидал бы
меня — как ужасное привидение он неотступно следовал бы за мною по пятам. В
продолжение большей части дня общество, занятия и разные приключения развлекали
меня и спасали от страха, но вечером, когда все стихало вокруг меня и я
погружался в раздумье, сидя уединенно где-нибудь в углу палатки, или в голой
пустыне, тогда этот странный призрак вставал передо мною во всем своем величии.
Напрасно старался я вызвать в себе веселое настроение духа, победить страх
рассудком, — призрак по-прежнему стоял передо мною. Как мучил он меня даже в то
время, когда я искал успокоения в созерцании красот природы или в изучении
окружавших меня людей. После продолжительной борьбы я вышел наконец победителем,
но и до сих пор краснею при воспоминании о ней. Удивительно, каких усилий стоит
сжиться с мыслью о грозящей опасности, сколько надо употребить труда, чтобы
спокойно смотреть на то, что надежда на дальнейшее существование покоится на
весьма шатком основании. Что я был осторожен, чрезвычайно осторожен в начале,
никто, разумеется, мне этого в ошибку не поставит; но должен сознаться, что я
доводил осторожность до крайности, даже до смешного. Зная, например, за собою
привычку размахивать руками при разговоре (что на восток не дозволяется), я, из
боязни выдать себя, прибег к насильственным мерам, т. е., подвязал себе руку,
сказав всем, что она у меня болит, — и рука скоро отвыкла от непроизвольных
движений. Я остерегался сесть что-нибудь лишнее на ночь, боясь, что обремененный
желудок нагонит тяжелые сны, и что я во сне заговорю, пожалуй, на каком-нибудь
европейском языке. Теперь я смеюсь над этим малодушием: ведь должен бы я был
сообразить, что татары, не зная ни одного европейского языка, не могли бы ничего
понять, но в то время мне приходили только на ум слова одного из моих спутников,
который однажды утром наивно заметил мне, что я храплю совсем не так, как храпят
жители Туркестана, на что ему кто-то поучительно заметил: «да, так храпят в
Константинополе». Если я боялся промахнуться при людях, так по крайней мер хоть
наедине, то мог бы дать себе более свободы. Не тут то было! Я и наедине был
рабом осторожности. Не удивительно ли, или скорее, не смешно ли, что я ночью,
среди необозримой пустыни, вдали от каравана, не мог сесть куска чёрствого
хлеба; смешанного с золою и песком, выпить глотка вонючей воды, не сопровождая
всего этого обычным магометанским молитвенным возгласом! Должно бы было прийти
мне в голову, что меня никто не видит, что все спят... Нет! Отдаленные песчаные
холмы казались мне шпионами, подслушивавшими скажу ли я: «бисмаллах», переломлю
я хлеб, как того требует магометанский устав. Так, раз в Хиве лежал я один
одинешенек, запершись в своей темной келье и, услышав зов на молитву, быстро
вскочил с постели и принялся за чтение тринадцати рикаат. На шестом или на
седьмом захотелось мне покончить чтение, так как мне пришло в голову, что я
далеко запрятался — так нет же, мне тотчас же представилось, что чей-нибудь глаз
мог подсматривать за мною сквозь щель в двери, и я опять усердно принялся за
прерванное, противное занятие. Только время, одно всеисцеляющее время могло
помочь моей беде. Да, хотя нравственный страдания труднее было победить, чем
физические, но и они не устояли: после четырехмесячной борьбы душа закалилась и
также привыкла к страху смерти как тело привыкло к грязи и нечистоте. Наступило
время душевного спокойствия, давшего мне, наконец, возможность наслаждаться
всеми прелестями моего путешествия. Безграничная свобода нашей бродячей жизни,
величайшая беспечность относительно одежды [и пищи (ибо дервишу дарят то и
другое), нравственная сила дервиша над толпою — все это бесконечно мне
нравилось, и поэтому неудивительно, что я умел при всяком удобном случае
пользоваться выгодами моего положения. Товарищи мои признавали во мне
замечательный талант для дервишеской жизни и поэтому всякий раз, когда
приходилось собирать подаяния в таком месте, где нельзя было рассчитывать на
щедрость жителей, это дело всегда поручалось мне. Раз я даже блистательнейшим
образом оправдал возложенное на меня таким образом доверие. Это было в кочевье
чаудор-туркменов, самых диких из всех кочевников, людей известных своим
безбожием; хаджи, ишаны и дервиши никогда не заходят в их палатки. Несмотря на
это, я отправился к ним в сопровождении троих своих товарищей, считавшихся
лучшими певцами, не забыв также захватить с собою достаточное количество
священного праха, цемцемской воды, зубочисток, гребней и других вещей,
приносимых обыкновенно богомольцами. В некоторых палатках меня действительно
приняли довольно холодно, но где же дикому сыну пустыни, будь он еще вдвое более
дик, устоять против искусных маневров дервиша! Я не только был щедро одарен
молоком и, маслом, сыром и, войлоками, но мне удалось даже добиться того, что
один из кочевников нагрузил все это на своего осла и доставил к нашему
изумленному каравану. Успех придает смелость, поэтому неудивительно, что я после
нескольких удачных опытов стал так себя держать, что иные, пожалуй, увидели бы в
поведении моем даже известную долю бесстыдства. Положим, что я и был несколько
бесстыж, но мог ли я иначе поступать? Может ли европеец представить себе, чего
стоит переодетому френги, этому пугалу востока, стоять перед таким тираном,
каков хивинский хан, и, вдобавок еще, давать ему свое благословение? Чтобы
видеть перед собой это желтое, блеклое лицо, этот мрачный взгляд и думать, что
тебя сейчас могут изобличить — для этого надо иметь большой запас решимости. На
первую мою аудиенцию у хана я вошел такими твердыми шагами и держал себя так
смело, что, казалось, я осчастливливал его своим посещением. Благочестивому
хаджи подобает смирение, поэтому на мою смелость посмотрели все с изумлением,
но, подумав, что таков в Турции обычай, никто не сделал мне ни малейшего
замечания. Впрочем, прибегать к таким крайностям приходилось очень редко; вообще
же дервишеская жизнь доставляла мне счастливейшие минуты. Я не имел особой
склонности подражать русскому графу Д., который, соскучившись жизнью европейских
гостиных, удалился нищенствующим дервишем в одну из долин Кашмира; но тем не
менее, я должен сознаться, что я ощущал какое-то особенное чувство радости,
когда, бывало, сидел, пригреваемый лучами осеннего солнца, где-нибудь в
уединенном уголке развалины и погружался, как истый сын востока, в раздумье
ничего не думающего человека. Есть какая-то невыразимая сладость в покачиванье в
мягкой люльке восточного покоя, без денег, без занятий, не зная никаких забот,
тревог и волнений! Конечно для нас, европейцев, подобное наслаждение не может
долго длиться, потому что стоит только перенестись мыслями на далекий, бодрый,
вечно движущийся запад, взглянуть на громадный контраст, представляемый обоими
мирами, как уже невольно почувствуешь влечение к последнему. Европейское
стремление и азиатский покой — вот два великие вопроса, представляющиеся духу
человеческому, но стоит только оглянуться кругом, чтоб увидеть, чья жизненная
философия лучше. Здесь все идет к упадку и рабству, там — к процветанию и
господству. Пестрота окружавшей меня жизни вовсе не настолько была лишена
прелести, как это может показаться многим записным европейцам. Конечно,
привлекает она ненадолго; поэтому я очень испугался, когда однажды хивинский хан
сделал мне серьёзное предложение жениться и поселиться в Хиве, говоря, что ему
такие люди, как я, не неприятны. Мысль провести всю жизнь в Туркестане, с
дражайшею половиной из узбекских красавиц была конечно ужасна, но тех немногих
месяцев, которые я провел среди всевозможных приключений, благополучно
кончившихся, я наверно никогда не жалею. Я говорю смело — никогда, потому что
самое даже воспоминание о моей тогдашней жизни невыразимо приятно. Не смотря на
то что теперь уже слишком три года прошло со дня моего возвращения в Европу, я
до сих пор отчетливо помню все подробности: прошлое кажется таким близким, как
будто я вчера еще вечКромепришел с караваном и завтра утром должен опять вьючить
своего осла и пускаться снова в путь. Нелицемерное дружелюбие, связывавшее меня
с моими спутниками, до сих пор живо во мне. Во время долгих наших дневных
переходов мы дружно болтали, смеялись, шутили и лучшего не желали. Мой
счастливый характер, который так им нравился, мои шутки и остроты, когда мы были
одни (при людях мы, как подобало нашей святости, имели холодные, вытянутые
физиономии) — все это служило для них неисчерпаемым источником веселья и что бы
сказали они теперь, увидя меня среди неверных, носящим смешное платье-вилы, как
они называют панталоны; меня, которого все считали настоящим образцом
западно-магометанского муллы?
Если с одной стороны мое инкогнито доставляло мне весёлые минуты, поныне
являющиеся иногда светлыми точками в прошлом, то с другой стороны оно же
доставляло мне и целые часы страданий и мук, мрачными тучами заволакивающих
горизонт моих воспоминаний. До сих пор среди тяжелых снов я часто вижу то его
величество хана бухарского, на крыльях морфея перелетающего сюда из Средней
Азии, то толпу мулл фанатиков, то мучения жажды. С каким восторгом, проснувшись,
я вижу, что я в Европе и в моем дорогом отечестве, в мирном моём жилище! Да,
часто мне приходилось бывать в очень критических положениях. Впрочем, надо
сознаться, что от них только некоторые оставили по себе сильное очень
впнечатление, а именно те, в которых грозила величайшая опасность — их я, пока
жив, наверни не забуду.
1.
Памятный вечер в халатской
пустыне, когда я после двухдневных мучении жажды, проглотив последний глоток
воды, чувствовал, что силы мои все более и более исчезают. Вокруг меня лежали
многие из моих спутников: по их искаженным чертам лица, но неподвижно
устремленным глазам видно было, что люди эти находились в таким те мучительном
положении, как и я. Когда, собрав последние силы, я поднял голову и осмотрелся
кругом, то мне показалось, что все со злобою смотрели на меня, потому что старый
аскет КариМессуд не раз в этот день повторял, что «мы падем очистительною
жертвою за великого грешника, находящегося в нашем караване». Быть может, никто
обо мне в это время и не думал, мне тем не менее сделалось страшно тяжело на
сердце. Наступило время вечерней молитвы, ни в ней немногие могли принять
участие. Наконец солнце приблизилось к закату, и я невольно устремил мои глаза
на ту точку, откуда оно бросало свои последние лучи на нас, страдальцев, имевших
мало надежды снова увидеть его поутру. Да, я не мог отвести глаз от той страны,
что называют западом, дорогим западом. С невыразимою тоской остановился я на
этом слове и несколько ожил при мысли о западе: пришла мне в голову Европа,
дорогая моя родина, тяжелая борьба в прошлом, ранняя моя смерть и конец всем
моим надеждам. Сердце разрывалось от боли, я хотел плакать, но не мог....
Мгновение это незабвенно, оно как призрак встает передо мною и теперь, едва лишь
вспомню я о халатской пустыне.
2.
Аудиенция моя у бухарского
эмира в Самарканде. Эмир, которому сказано было обо мне, как о человек
подозрительном, все время не спускал глаз с моего лица, желая открыть во мне
переодетого френги. Часть происходившего между нами разговора известна уже
читавшим мое путешествие. Я льстил себя надеждою заслужить расположение эмира,
но мне стоило неимоверных усилий, чтобы лице мое и особенно глаза не выдали
моего внутреннего волнения, и хотя нервная дрожь пробегала по всему телу, но я
должен был не выказывать ни малейшего признака страха. Усилия мои увенчались
успехом: я не покраснел, не изменился в лице, но пусть читатель представит себе
мое положение, когда вдруг эмир после четвертьчасового разговора подозвал к себе
служителя, шепнул что-то ему на ухо и кивнул мне, чтоб и следовал за ними. Я
быстро поднялся со своего места и вышел. Служитель повел меня по комнатам и
дворам, и я все время мучился страхом неизвестности. Передо мой восставали
картины одна другой мрачней: мне казалось, что меня ведут на пытку, на ту
ужасную смерть, которая так часто как призрак носилась передо мною. После
долгого странствования проводник мой привел меня, наконец, в темную комнату и,
сказав мне, чтоб я сел здесь и ждал его возвращения, сам ушел. Легко себе
вообразить, что было со мной в эту минуту. Если бы я мог хотя только
предположить, какая казнь меня ждала, я был бы спокойнее, но ужасная
неизвестность томила меня. Этой адской пытки я век не забуду! С лихорадочным
нетерпениям считал я секунды, ожидая, когда дверь снова отворится. Наконец
служитель появился... Я впился в него глазами, но вместо орудий казни увидел у
него под мышкой тщательно свернутый узелок: то была почетная одежда, жалуемая
мне эмиром и несколько денег для продолжения моего путешествия.
3.
В ожидании прихода гератского
каравана в жаркие августовские дни жил я на берегу Оксуса у лебабтуркменов;
приютился я на двор заброшенной мечети. Туркмены обыкновенно собирались ко мне
вечКромеи принесли с собой или свой песенник или какой-нибудь поэтический
рассказ, и я должен был им читать вслух. Напряженное внимание, с каким
выслушивались деяния какого-нибудь любимого героя, ночная тишина, глухой рокот
Оксуса — все это производило во мне радостное чувство. Однажды вечКромечтение
наше протянулось до полуночи. Я порядком усталь и, забыв совет никогда не спать
близко развалин, улегся у стены и скоро заснул. Прошло не более часа, как меня:
вдруг разбудила невыразимая боль в ноге. С страшным криком я вскочил—мне
казалось, как будто сотни ядовитых иголок впились в мою правую ногу около
большого пальца. Крик мой разбудил старика туркмена, спавшего недалеко от меня.
Не спрашивая меня ни о чем, он воскликнул: (Бедный хаджи! тебя укусил скорпион и
к тому же в несчастное время саратана (жаркие дни августа). Помоги тебе Бoг! С
этими словами он схватил мою ногу, перевязал ее около щиколотки так туго, как
будто хотел ее перерезать надвое; потом тотчас принялся сосать рану, но так
сильно, что я чувствовал потяготу во всем теле. Когда старик устал, его сменил
другой туркмен. Наконец, наложив мне еще две повязки, меня оставили, сказав в
утешение, что если Аллаху будет угодно, то завтра к утренней молитв решится:
проснусь ли я с болью или совсем со странствованием по суетному свету. Хотя я
совсем почти лишился сознания от зуда, колотья и жара, все более усиливавшихся,
тем не менее мне пришли на память рассказы об известных с давнего времени своею
ядовитости скорпионах белхских. Небезосновательный страх делал боль еще
невыносимее. Что я лишился всякой надежды, это видно из того, что, забыв свой
инкогнито, я стал стонать таким голосом, что татарам, как они потом мне
говорили, показалось даже смешно, потому что у них такие звуки издают только при
сильной радости. Замечательно, что боль в несколько минут распространилась от
большого пальца ноги до макушки головы, но только по одной правой сторон тела —
казалось, что огонь протекал по жилам, то вниз, то вверх. Нельзя описать тех
страданий, той муки, который я испытывал в эту ночь. Чтобы покончить с жизнью, я
бился головою об землю, но это скоро заметили и привязали меня к дереву так
лежал я несколько часов с глазами, обращенными к небу, обливаясь холодным потом.
Плеяды склонялись постепенно к дорогому западу, которого я более уже не надеялся
видеть; к утру я слегка заснул, но скоро меня разбудил монотонный, «Ла иллах, ил
aллax» сзывавший правоверных на молитву. Когда я пришёл в себя, боль немного уже
унялась. Колотье и жар начали постепенно исчезать, начиная с ноги. Когда же
солнце поднялось не более, как на высоту копья, я хотя и сильно ослабел и
изнемог, но мог уже подняться на ноги. Спутники мои уверяли, что чорта,
вошедшего в меня через укушенное место, выгнало ни что иное, как утренняя
молитва, в чем я, разумеется, не смел усомниться. Но эта ночь, эта страшная
ночь, останется навеки для меня незабвенною.
***
Вот три критические момента
из моих скитаний по Средней Азии; все остальное — постоянно испытующие взгляды,
преследовавшие меня, беспрестанные подозрения, несказанные трудности путешествия
с сумой нищего, все лишения, все мерзости оставили по себе немного мрачных
воспоминаний. Восхищение, что я видел, наконец, те страны, к которым стремился
еще со дней ранней юности, оживляло, укрепляло меня и, за исключением немногих
приведенных случаев, я был постоянно весел и счастлив. Даже несомненно то, что
теперь среди цивилизованной европейской жизни я не нахожу более в себе той
физической и нравственной бодрости, и кто знает, может быть через несколько лет
я еще пожалею о том времени, когда я, в лохмотьях, лишенный крова, но сильный и
веселый бродил по степям Средней Азии.
III.
Среди туркменов. (Из моего
дневника).
13 апреля.
Дивясь и изумляясь странным
социальным отношениям, среди которых я сегодня впервые нахожусь утром сидел я на
одном ковре с гостеприимным моим хозяином, Хандшаном, и слушал внимательно его
рассказы о туркменской жизни. Этот, уважаемый всеми начальник хотел познакомить
меня со всеми достоинствами и недостатками своего народа. Он был твердо убежден,
что я османли и лице полуофициальное, и потому думал добиться через меня помощи
против русских и персов у султана, на которого весь суннитский мир взирает с
особою надеждою. Хандшан говорил горячо, но стараясь этого не выказывать; потом,
прочитав мне первое наставление, он поднялся, чтоб, как он сказал, представить
мне свой дом и двор, т. е., переводя на наш язык, познакомить меня со своими
дамами, что у жителей Азии считается знаком особого внимания к гостю. Впрочем,
мнимый служитель величайшего повелителя вполне заслуживал этого почтения и
старался сидеть, принимать такое выражение лица и вообще держать себя так, чтобы
вполне соответствовать приему. Несколько минут спустя послышалось какое-то
особенное позванивание и побрякивание, занавес палатки поднялся, и из нее вошла
целая толпа женщин, девушек и детей. Предвидимые довольно дородною, пожилою
матроной, он подошли ко мне. Сцена эта поразила меня не менее, чем вошедших. Все
робко посматривали на меня, женщины помоложе опускали глазки, а дети в страх
цеплялись за платья матерей. Дородную особу Хандшат представил мне, как свою
мать и сообщил, что ей 60 лет. Поверх её первобытного костюма длинной, красной,
шелковой рубашки, на груди справа и слева висело множество различной величины
серебряных футлярчиков, из которых некоторые были украшены даже драгоценными
камнями. В футлярчиках этих помещались разные талисманы испытанной силы. Кроме
того, на почтенной дам было значительное количество разных ожерелий и браслетов
на руках и ногах, которые, как наследственные фамильные украшения, переходили от
поколения к поколению, и, судя по наружности, принадлежали к глубокой древности.
Остальные женщины и дети также были обвешаны разными украшениями, более или
менее, смотря по расположению к ним их повелителя. Для здешних дам одежда, часто
грязная и изорванная, вещь совершенно второстепенная: (туркменка только тогда
считает себя нарядною, если она в состоянии таскать на себе лишние фунта два,
серебра. Сначала старуха протянула мнеt свои морщинистая руки для обычного
приветствия: её примеру последовали остальные. Я обнял поочередно всех женщин и
детей, как того требует хороший тон; за тем все уселись на корточках полукругом
около меня, н начались расспросы о здоровье, о счастливом прибытии. Каждый
снашивал раза по три, по четыре об одном и том же и я каждому на каждый вопрос
должен был отвечать. Не в одной Европе можно стать в несветскому человеку в
тупик в дамском ь обществ — и в Средней Азии может случиться нечто подобное. Как
вообще у всех кочевников магометанского востока, женщины чем более стареют, тем
более утрачивают как физические, так и нравственный свои достоинства; так и
теперь молодым дамам мне приходилось отвечать на самые деликатные вопросы, а со
старыми я беседовал о религии, войне и внутренних отношениях соседних племён. С
теми и с другими я должен был стоять настороже, чтобы в чем-нибудь не
промахнуться: на молодых женщин я должен был повлиять, пользуясь всем обаянием
моего сана муллы, а на старых расточать благословения. Во время этого визита в
палатку вошло несколько мужчин — соседей и родственников, но они не мешали
женщинам. Вообще, как я позже заметил, туркменские женщины, хотя они и
исключительно одни составляют рабочий класс общества, пользуются известным
уважением у мужчин, что он впрочем вполне заслуживают, ибо такой примерной
добродетели, такого самопожертвовании для блага семьи и такой неутомимости, как
у них, я нигде на восток не встречал. В конце визита, продолжавшегося около
часа, мне пришлось написать несколько талисманов, за что мне отдарили мелкими
подарками из женских рукоделий. Старуха в последствии неоднократно меня
посещала; раз я сопровождал ее даже на могилу её супруга, чтобы там помолиться
об усопшем. Согласие, царившее между нами, удивило даже самих кочевников, но
теперь причина его для меня ясна: странность, неожиданность моего появления и
ореол святости, окружавший меня, естественно должны были привлечь старушку. Кром
того, я терпеливо и внимательно выслушивал её рассказы о промахах персидских
невольниц в домашнем хозяйстве, о том, как нынешние женщины неискусны в тканые
ковров, в приготовлении войлоков и т. п. Я сам даже делал иногда там и сям
замечания, с видом знатока и человека, интересующегося этим предметом. Да, если
путешественник хочет что-нибудь узнать, то он должен постоянно следовать
подобной житейской философии. Например, в данном случае обходительность моя
принесла мне значительную пользу: расположение ко мне старой домохозяйки сделало
то, что я приятно провел время у туркменов, народа, который в своих владениях не
позволяет свободно двигаться не только европейцу,, но даже и азиату другого
племени
16 апреля.
После утренней молитвы, войдя
в палатку Хандшана, я застал там целое общество, чрезвычайно внимательно
слушавшее рассказ молодого туркмена, всего в пыли и грязи, и по лицу которого
видно было, что он только что вышел из какой-то передряги. Туркмен рассказывал
не громко, но в живых красках о вчерашнем разбойничьем набег на персов, в
котором он принимал участие. Женщины, прислуга и невольники (бедные, каково было
у них на сердце!), сидели кружком около рассказчика; на долю последних досталось
не одно красное словцо за то, что по временам звук цепей на их ногах мешал
слушать. Странным мне показалось, что когда рассказчик описывал отчаянное
сопротивление несчастных персиян, то слушатели приходили в страшное негодование
от того что персы осмеливались не позволять добровольно себя грабить. Когда
рассказ кончился, все поднялись с своих мест и отправились осматривать добычу,
которая всегда вызывает у туркмен смешанное чувство зависти и довольства. Я
также последовал за толпою и, войдя в палатку, где была добыча, увидел страшную
картину. Посредине лежало двое персиян с лицами, покрытыми смертельною
бледностью, все в запекшейся крови, в грязи, в пыли; на поломанные члены их
накладывали цепи. Одному из них оковы были узки, он дико вскрикивал, когда
жестокосердый туркмен силою их накалачивал. В одном углу сидело на земле двое
бледных. дрожащих от страха детей, с отчаянием смотревших на несчастного
страдальца — это был их отец! Им хотелось плакать, но одного взгляда разбойника,
на которого они изредка вскидывали глаза, между тем как челюсти их судорожно
дрожали, достаточно было, чтобы удержать их слезы. В другом углу палатки сидела
девушка лет 15—16, с распущенными волосами, в изодранной одежде и почти вся
залитая кровью. Она рыдала, закрыв лице руками. Некоторые туркменки из
сострадания и любопытства спрашивали ее, что с ней, не ранена ли она? «Нет; я не
ранена», отвечала девушка чрезвычайно жалобным голосом. «Эта кровь моей матери,
моей единственной, доброй матери. О, ана дшан, ана дшан! (дорогая мать)». С
восклицанием этим несчастная начинала биться головою о деревянный переплет
палатки так, что он едва выдерживал. Глоток воды развязал ей немного язык, и она
рассказала, как ее, ценную добычу, разбойник посадил к себе на седло, а мать ее
Привязал к стремени. После часового пути несчастная мать так устала, что падала
на каждом шагу. Туркмен попробовал было придать ей силы кнутом, но видя, что это
не помогает и желая в то же время не отстать от своих товарищей, он пришел в
бешенство, выхватил саблю и в одно мгновение ока снес голову несчастной.
Брызнувшая кровь залила и дочь, и всадника, и лошадь. Рассказывая это, девушка
взглянула на кровь, покрывавшую её одежду, и снова громко и горько зарыдала.
Пока это происходило внутри палатки, родственники разбойника собрались снаружи
её рассматривать награбленную добычу. Старухи с алчностью накинулись на домашнюю
утварь, а резвая молодежь принялась примеривать то ту, то другую одежду, что
иногда вызывало громкий смех окружающих. Здесь все веселилось и ликовало, а
невдалеке представлялась картина глубочайшего горя и страдания. Но никто и
внимания не обращал на этот контраст: по общим понятиям нет ничего необычайного,
что туркмен обогащается разбоем и грабежом. И такие ужасающие социальные
отношения существуют днях в четырнадцати пути от Европы!
18 апреля.
На берегу Гёргена, через три
палатки от меня, живет Елиаскули — туркмен, до тридцати лет занимавшийся обычным
грабежом а ныне удалившийся от дел для того, чтобы, как сам он говорит,
провести остаток этой ничтожной, достойной смеха жизни, соблюдая веления
благочестия. А как мне кажется — не благочестие, а просто раны, полученные им от
адскаго оружия при Ашураде, не позволяют ему продолжать его отвратительное
ремесло. В надежде, что молитвы мои ниспошлют все благословение небес на его
нечестивую голову, Елиаскули обстоятельно рассказал мне, как русские, объявив,
раз, священную войну, т. е. другими словами, желая отнять своих пленных,
высадились на берег Гёргена, напали на палатки и подожгли их. Бой продолжался
более дня. Хотя русские из трусости не подходили близко, а только издали
стрляли, тем не менее храбрые газисы (воины за религию) не могли противостоять
дьявольскому их искусству. Сам Елиаскули при этом получил несколько тяжелых ран
и, пролежав целый день замертво, был воскрешен своим пиром (духовным главою).
Елиаскули изъявил желание съездить со мною сегодня в новую (палатку) Ана-хана,
главы племени ярали, живущего на верховьях Гёргена, близ самой персидской
границы. Ана-хан желал со мной познакомиться вероятно из любопытства, а может
быть и почему-нибудь еще. Путь наш лежал по левому берегу Гёргена, но мы часто
делали большие обходы для избежания болот и трясин. Не зная зачем я ехал, я мог
бы подозревать что-нибудь не доброе, но я был совершенно покоен: по всему пути
люди выходили из палаток мне на встречу с молоком, сыром, подарками, чтоб я
только их благословил; разумеется, даже последняя тень подозрения улеглась и у
меня было очень весело на душе. Беспокоили меня только тяжелая туркменская
войлочная шапка, на которой намотано было несколько локтей холста в вид чалмы,
да еще тяжелое ружье, которое я, хотя меня и считали муллою, должен был взять с
собою для вида. По временам Елиаскули на целые полчаса отставал от меня, и я,
продолжая путь один, встречал кое-где мародеров, которые, возвращаясь с пустыми
руками из неудавшегося похода, мрачно посматривали на меня. Одни приветствовали
меня, другие же только спрашивали: чей ты гость, мулла?» Получив от меня в
ответ— акелте Хандшан-бей», они с видимым неудовольствием продолжали путь,
бормоча себе в бороду: «Аман больи» (будь здоров). К вечеру Хандшан, ехавший
другою дорогой, присоединился к нам, и мы вместе добрались до цели нашей
поездки.
Ана-хан, человек лет около шестидесяти, как патриарх сидел на склонt
зелёного холма,
окруженный внучатами и своими маленькими детьми (только на восток можно
встретить однолеток внучат и сыновей), довольными глазами окидывая окружавших и
любуясь возвращавшимися с пастбищ стадами овец и верблюдов. Прием, нам
оказанный, был короток, но дружелюбен. Ана-хан повел нас в приготовленную
палатку, указал мне на почетное место и начал разговор только тогда, когда со
стола исчезли последние остатки нарочно для нас убитой овцы.
D
первый день Ана-хан был молчалив и внимательно выслушивал мои рассказы о
турецкой жизни и об отношениях русских к туркам; на второй же день он
разговорился и сообщил мне прежде всего о дружелюбном приеме, который он оказал
английскому елтчи (посланнику), отправлявшемуся в Хиву. Я догадался, что это был
м. Виллиам Томсон, посланный своим правительством для примирения Персии с Хивой.
Так как Ана-хан при описании оружия, драгоценностей и личности Франкского
посланника, особенно упирал на сходство его лица с моим, то мне стала понятна
причина, почему ему хотелось меня видеть. Обведя огненным взглядом всех
окружавших, как бы желая убедить их в своей проницательности, Ана-хан подошел ко
мне и, тихо ударив меня по плечу, сказал: Эффенди! Тура (печать) султана
румского у нас высоко почитается: во-первых, он глава всех султанов, во-вторых,
туркмены и османли находятся в кровном родстве и хотя ты явился без даров, ты
все-таки дорогой для нас гость». Замечание это показало мне, что не все верили
моему инкогнито. Впрочем, отдельные личности не могли меня беспокоить, ибо
большинство, особенно муллы были за меня. Но Хандшан, как я заметил, не разделял
взгляда Ана-хана. В последствии об этом и помина не было, и я продолжал
пользоваться гостеприимством недоверчивого начальника.
20 апреля.
В далеком Мерголане, в
Кокандском ханстве, вследствие особого религиозного рвения жителей очень часты
сборы денег для поддержки высших школ в Медине, где находится множество таких
заведений. У источника Ислама кишмя кишат любознательные ученики, истолкователи
Корана, которые под видом благочестивых занятий ничего не делают и живут на счет
всех магометанских стран. Сюда присылают стипендии Фец и Морокко; главы
алжирских племен ежегодно шлют свои дары; Тунис, Триполи, Египет и другие мелкие
государства несут тоже свою дань; Порта соперничает с Персией в поддержке этих
заведений; татары, находящиеся в русском подданств и индийцы британской Индии не
забывают школ в Медине. Maло всего этого — даже с бедных жителей туркестанских
оазисов требуют также их лепту. Во время моего путешествия по Средней Азии,
Ходжа Бузурк, высокоуважаемый святой этих стран, собрал для Медины, вероятно с
большим трудом, 400 дукатов и поручил доверенному своему, мулле Есаду, доставить
эту сумму в Медину. Жители Средней Азии обыкновенно таят деньги, как главный
источник всяких опасностей; названный же мулла ни от кого не скрывал цели своего
путешествия в надежде по дороге увеличить капитал новыми пожертвованиями.
Ободренный успехом в Бухаре, Хиве и других городах, мулла рассчитывал, что тоже
будет и у туркмен и, положившись на рекомендательные письма к нескольким здешним
ученым, смело вступил в пустыню. До Гемюштепе все шло благополучно, но по
прибытии сюда тотчас распространился слух о содержимом дорожного мешка муллы.
Туркмены знали, что деньги эти назначены для благочестивой цели, но не поняли
этого в уважении. Каждый старался поймать муллу, прежде чем он сделается
чьим-нибудь гостем, так как па туркменским обычаям гость поступает под защиту
своего хозяина, делается, так сказать, членом его семьи, но негость может быть
ограблен, убит, продан, и никто не вступится за него, никто не станет мстить.
Нашему кокандскому мулле это вероятно было известно, но, видно, его обманула
личина благочестия туркмен. Раз утром, едва он отделился от каравана на
несколько шагов, два туркмена накинулись на него и отняли все его деньги, все
имущество. Ни святость дела, на которое назначены были деньги, ни мольбы, ни
угрозы — ничто не помогло: разбойники отняли все, оставив только старые книги да
бумаги, и несчастный мулла, пораженный и чуть не голый возвратился к каравану.
Случилось это недели за две до моего прибытия; в это время преступников успели
открыть и пригласили их явиться на духовный суд. Как константинопольский мулла,
я был почтен приглашением быть также судьей, и сцена, в которой и мне пришлось
принять участие, останется надолго в моей памяти. Суд происходил в поле, под
открытым небом. Мы, т. е., ученые, сидели полукругом с толстыми книгами в руках,
а около нас теснилась громадная толпа любопытных. Подсудимые явились со своими
семьями и с начальником их племени; держались они так свободно, как будто дело
касалось совсем не бесчестного поступка. На вопрос, кто взял деньги, они гордо
отвечали мы! Я уже по этому началу видел, что денег возвратить невозможно. Судьи
поочередно истощали свое ораторское красноречие и сыпали цитатами из Корана, но
безуспешно. Когда дошла очередь до меня, я попробовал подействовать на этих
молодцев, указывая им на постыдность такого поступка. «Какой же тут стыд?»
сказал один из них. «В твоей стране, значит, наказывают за грабеж? Это
удивительно! А я было думал, что султан, повелитель всего света, умнее. Если у
вас грабеж не дозволяется, то чем же люди живут?» Другой мулла попробовал
угрозить шариатом (духовным законом) и яркими красками описал какие адские
мучения ожидают человека на том свете за подобное преступление. «Что твой
шариат?» возразил опять туркмен. «У каждого есть свой шариат. Твой, мулла,
шариат - язык твой, ты двигаешь им как хочешь, а мой шариат — сабля, и я
размахиваю ей, как хочет рука!» После долгих бесполезных увещаний преступников и
совещания седоволосых старцев заседание наше было закрыто. Туркмены удалились и,
вместо поддержания школ в Медине, употребили эти деньги на покупку нового
оружия. Мулла же Есад, огорченный, возвратился назад в Коканд, узнав на опыте,
что туркмены хотя и называются правоверными, но на самом дел чернейшие кафиры
(неверные) на всей земле.
6 мая.
Ораз-Дшан, молодой туркмен,
лет восемнадцати, удалой, дикий на вид, с двенадцати лет принимавший уже участие
в разбойничьих набегах, являлся ежедневно к нам в палатку в Этреке, чтоб
поучиться религий и нравственности у пира тамошнего разбойничьего племени.
Однажды туркмен этот встретился у нас с ОмерАхондом, соседним муллою, который
был известен как ученый, а еще более как хозяин великолепнейшей лошади. Когда в
разговор стали расхваливать эту лошадь, туркмен разгорячился, и, в половину
серьезно, в половину шутя, сказал мулле: «Ахонд, я дам тебе трех ослов и
персиянина за твою лошадь. Жаль смотреть, что она стоит в стойле, когда персияне
свободно разгуливают у себя. Если же ты не захочешь отдать мне ее, то, смотри,
через несколько дней она будет у тебя украдена!» Мулла и пир сделали туркмену
строгий выговор за эти слова, — тем дело и кончилось. Едва прошло четыре дня,
как вдруг мулла является к нам со слезами на глазах «Мою лошадь у меня украли!»
сказал он, вздыхая. «Кудхан! ты один можешь мне возвратить ее. Ради Тшихарьяра
(четыре первые халифа) сделай, что можешь».—«Это дело Ораза», отвечал мрачно
Кулхан. «Я вырву ему черную душу из его грязного тела!» Во время вечерней
молитвы, совершавшейся на терассообразном возвышении, мечети пустыни, между
прочими правоверными явился и Ораз. До благочестивому его виду никто бы не
сказал, что он сегодня обокрал одного из отцов церкви. По окончании молитвы Ораз
опять пришёл в наш кружок. Кулхан, увидя его, сказал: «Друг, лошадь муллы
украдена; ты знаешь, где она. Завтра утром она должна быть опять в своем стойле
— слышал ты меня?» Слова эти нисколько не сконфузили вора. Загнув одною рукой
тяжелую свою шапку на бок, а другою пересыпая песок, он спокойно отвечал: а
лещадь у меня, но я ее не отдам. Кто хочет взять ее у меня — пусть попробует. Я
думал, что слова эти приведут всех в негодование, но никто и не шевельнулся.
Еулхан продолжал его уговаривать, но бесполезно. Когда же некоторые из
седовласых стариков стали пригрожать Оразу, то он вышел из себя. «А ты, лучше,
что ли, сделал с кобылою хаджи?» сказал он пиру и ушел. Доносившиеся издали,
среди ночной тишины звуки распеваемой им песни Еёрогли свидетельствовали, что
Озар торжествовал победу. Несколько времени прошло в совещаниях. Силой ничего
нельзя было сделать с Оразом, так как его хан, по обычаю, не смотря ни на что,
взял бы его под свою защиту, а хан был слишком могуществен, чтобы на него
нападать. Оставалось прибегнуть к духовным средствам и, к удивлению, они
оказались действительными. Туркмен считает величайшим наказанием принесение на
него жалобы тени умершего его отца иди теням предков; а обряд этот состоит в
том, что в вершину могильного холма втыкают копье острием книзу, а на него
вешают несколько окровавленных лоскутов, когда дело идет об убийстве, и
изломанный лук во всех остальных случаях. Видя этот знак на могиле, все туркмены
соединяются против племени, к которому преступник принадлежит. А как средство
это действует, я видел из того, что едва Ораз увидел воткнутое копье на
могильном холме деда, как в ту же ночь отвел лошадь к мулле и поставил ее на то
же самое место, откуда взял. Сам он мне говорил, что ему очень трудно было
расстаться с лошадью и он не скоро это позабудет, но что лучше лежать в черной
земле, чем нарушить покой предков.
IV.
В туркменской пустыне
Мои приятели спутники
говаривали: «Чиль мензиж Туркестан», т. е., 10 переходов через пустыню
Туркестана труднее и тяжелее, чем «Чиль мензили Арабистан», т., е., 40 переходов
через пустыню от Дамаска до Мекки. В последней пустыне путник ежедневно
встречает цистерны, богато снабжённые водою, находит мягкий хлеб, вареную пищу,
даже прохладную тень—все удобства; в первой же попечительность и не подумала
что-нибудь сделать для бедного путника, которому постоянно грозит опасность
умереть от жажды, .быть ограбленным, убитым или заживо засыпанным песком. Меха с
водою, мешки муки, лучшие лошади, оружие — ничто иногда не помогает, и путнику
остается только положиться на Аллаха! На сколько это верно, как величественно
страшна пустыня между Персией и среднеазиатскими оазисами, уже известно читателю
моего «путешествия». Я прибавлю теперь только несколько подробностей из жизни
каравана.
***
В первые три дня мертвая
тишина пустыни производила на меня могущественное, волшебное действие. Часто я
по целым часам смотрел вдаль, не произнося ни слова. Спутники думали, что я
нахожусь в религиозном созерцании и не мешали мае. Я между тем мельком видел,
как некоторые из них, задремав на своих верблюдах, потешно раскачивались взад и
вперед к общему удовольствию публики. Чувствуя, что сон одолевает, ездок крепко
ухватывается за выдающуюся луку седла, что впрочем не мешает ему, наклоняясь
вперед, ударяться о нее подбородком, так что зубы трещат, или откидываясь назад,
рисковать кувырком свалиться. Последнее случается довольно часто и
сопровождается всегда громким смехом всего каравана. Упавший делается героем дня
и много приходится ему выслушать самых грубых острот за свою неловкость. Истинно
неистощимым источником веселья для всех был молодой туркмен, по имени
Нияз-Бирди, замечательно живого ума и очень ловкий юноша. Каждое его движение,
каждое слово могло рассмешить даже самого почтенного муллу. Имея в своем
владении несколько нагруженных верблюдов, он, не смотря на это, большею частию
был все на ногах. Едва показывалось стадо диких ослов, он тотчас же летел туда,
пугая их криком и быстротой движения. Раз ему удалось поймать молодого дикого
осленка, отставшего от стада; привязав на веревку, притащил он пугливое животное
к каравану. Тут-то мчалась потеха! Нияз приглашал всех покататься на осленке,
обещая дать тому, кто проедет на нем, три ложки сала из бараньего курдюка. Три
ложки сала в пустыне большая приманка для хаджи, поэтому нашлось много охотников
попробовать свое искусство. Но с нецивилизованною валаамовою ослицей ничего
нельзя было сделать: не успевали бедные хаджи взобраться на сипну животного, как
уже лежали, растянувшись на песке. К концу каждого довольно длинного перехода
обыкновенно уже замечалось общее утомление каравана. Все начинали посматривать
на караван баши, который, в свою очередь, также озирался, ища глазами хорошего
места для стоянки, т.е. такого, где бы уже прежде останавливался караван или где
бы было достаточное количество хорошего корма для верблюдов. Как только
находилось такое место, караван баши поспешно направлялся туда, молодежь же
разбегалась во все стороны, ища сухих кореньев, кустарников, или другого какого
горючего материала. С надеждою на близкий отдых оживают усталые путники: все
бросаются к животным, быстро развязывают веревки, снимают тюки и складывают их
кучками на землю. Всякий старается поместиться в тени этих кучек, и едва
развьюченные голодные животные примутся за корм, как уже в караван воцаряется
торжественная тишина. Все как бы опьяняются или ошеломляются, упиваясь покоем и
отдыхом. Расположившийся на отдых караван, в летний месяц, особенно в степях
Средней Азии, представляет красивую картину. Невдалеке от места стоянки пасутся
верблюды, жадно срывающие сочные стебли чертополоха, а путники, даже самые
бедные, сидят с чашками чая в руках и жадно глотают дорогую влагу. Чай этот —
зеленоватая теплая вода, часто мутная, всегда без сахара, но человеческое
искусство не изобрело еще такого напитка, такого нектара, который был бы так
вкусен, действовал бы так освежительно, как чай на стоянке в пустыне. Я до сих
пор не могу забыть его чудного действия на меня. С первых же капель чувствуешь,
что по жилам течет какая-то приятная теплота, оживляющая, но не возбуждающая.
Затем действие его распространяется на сердце и голову; глаза делаются особенно
как то светлы и начинают блестеть. Трудно рассказать, какое блаженство я
чувствовал в подобные минуты. Товарищи мои под его влиянием засыпали, а я
удерживался от сна и чувствовал себя счастливым тем, что мог грезить с открытыми
глазами.
После чая караван постепенно оживляется и делается шумнее. Обыкновенно общество
все разбивается на кооши — небольшие группы, представляющие как бы отдельные
дома путешествующего города. В каждом идет своя работа, которою занимаются
только люди помоложе, а старички продолжают еще отдыхать. Вот в одном пекут
хлеб: оборванный хаджи сидит и месит своими грязными руками черное тесто;
полчаса уже он занять своею работой, а руки чище не стали, потому что на них в
несколько дней набирается столько грязи, что одно тесто всю ее в себя не
вбирает, В другом кружке варят, а что варят—это можно сказать и не глядя, потому
что аромат прогорклого бараньего сала, или чересчур уж пикантных верблюжьих или
лошадиных котлет сам о себе говорит. На глаз кушанья мало привлекательны, но в
пустыне на это не обращают внимания, ибо все голодны, а голод, как известно,
лучший повар. В развлечениях отдыхающий караван тоже не ощущает недостатка, если
только время стоянки может быть продолжено. Любимейшую забаву в таком случае
составляет стрельба в цель, причем победитель получает всегда в награду не
сколько пороху и свинцу. В нашем караване забава эта была редко возможна, потому
что по нашей малочисленности мы были постоянно подвержены опасности и должны
были держать себя так, чтобы нас не было слышно. Товарищи мои все свободное
время проводили. в спанье, чтении Корана, исполнении других религиозных обрядов,
или занимались туалетом. Хоть я и говорю о туалете, но, надеюсь, всякий
догадается, что тут о будуаре с его благоуханиями и тому подобным и речи нет.
Туалет туркмена заключается в выщипывании маленькими щипчиками волос на верхней
губе; а что касается до туалета хаджи и моего в том числе, то он был так прост и
прозаичен, что и говорить о нем не стоить. Необходимейшими для него
потребностями были: песок, огонь и муравьи, а какое делали мы из них
употребление, это пусть останется загадкой для читателя. Из азиатских народов
татарин лучше всех приспособляется к жизни в пустыне. Как человек суеверный и
слепой фаталист, он легко смотрит на грозящие опасности, а с грязью, бедностью и
лишениями всякого рода знаком и дома; поэтому неудивительно, что он, с корою
грязи на лице, по месяцам не меняя одежды, остается очень доволен своею судьбой.
Довольство это постоянно меня изумляло, а особенно за вечернею молитвой, когда
все возносили благодарения Аллаху за благодеяния, ниспосланные им. Для вечерней
молитвы караван вытягивается обыкновенно в линию, во глав которой, обратясь
лицом к заходящему солнцу, стоит имам и читает молитву. Царствующая окрест
мертвая тишина еще более увеличивает торжественность этой минуты. А как
взглянешь на дикие, но дышащие довольством лица молящихся, освещённые последними
лучами солнца, то так и видишь, что люди эти и не желают себе более удобств в
жизни. Часто мне при этом приходило в голову: какой бы вид имели они, сидя на
мягкой подушке купе первого класса, или в комнат хорошей гостиницы? Как
бесконечно далеки еще эти страны от цивилизации и ее благодеяний! Все это—жизнь
каравана днем. Ночью пустыня более поэтична, но ж более опасна, потому что глаз
может разглядеть только ближайшие предметы. Поэтому ночью, и на ходу, и на
стоянке, все теснятся в кучу, все жмутся один к другому. Днем караван тянется
длинною цепью, ночью же цепь эта делится на 6 — 8 частей, который, идя рядом,
образуют четырёхугольник, по бокам которого всегда помещаются самые храбрые.
Длинная тень, бросаемая верблюдами в лунную ночь, имеет своеобразный вид. В
беззвездную же, темную ночь, всеми овладевает страх и отойти на шаг от каравана
— все равно, что из родимого дома очутиться вдруг в беспомощном одиночестве. На
дневной стоянке каждый выбирает себе место, какое ему нравится, ночью же под
наблюдением карван баши из каравана делается рад укреплённого лагеря. В средине
складываются товарные тюки, возле них помещаются люди, а кругом всего стеною
кладут верблюдов плотно один к другому. Я говорю кладут, потому что эти
удивительные животные ложатся по приказанию, остаются всю ночь неподвижно на
своих местах и утром поднимаются опять как будто по приказанию. Их кладут
головами кнаружи, потому что они издали чуют врага и глухим хрипением возвещают
о приближении опасности, так что и во время отдыха продолжают быть полезными.
Положение людей, лежащих близко от верблюдов, не совсем приятно, ибо животные
эти издают от себя противнейший запах в мире. Часто даже на расстоянии выстрела
спящим путникам случается видеть на себя осязательные последствия солёного корма
и соленой воды, которыми верблюды наслаждаются в течение дня. Мне самому
случалось не редко просыпаться расписанным альфреско, но на это почти не
обращается никакого внимания; кто же станет сердиться на животное, правда
противное по виду, но такое терпеливое, воздержное, кроткое и полезное.
Неудивительно, что путешественник по пустыне ценит верблюда выше прочих животных
и любит его чуть не до обожания. Питаясь чертополохом, которого никакое другое
четвероногое есть не станет, верблюд идет, не утомляясь, целые недели, даже
месяцы. Без него в этих пустынях человек существовать бы не мог, а он так
кроток, что ребенок одним словом «чyx!» может заставить лечь целое стадо таких
больших и сильных животных, и одним же словом «берр») заставить встать. В
больших, тёмно-синих глазах верблюда можно многое прочесть. Если переход очень
длинен, или песок глубок, глаза принимают грустное выражение. Особенно оно
бывает заметно во время нагрузки, когда на спину верблюда взвалят слишком
тяжелый тюк. Животное гнется под тяжестью, со слезою на глазах оборачивает
голову к хозяину и так тяжко, жалобно стонет, как будто хочет сказать: «человек,
сжалься же надо мною».
Верблюд имеет постоянно
весьма серьезный вид, исключая только то время года, когда он, вследствие
законов природы, ходить в каком-то полу опьянённом состоянии. В выражении
физиономии его нельзя не признать халдейско-симитического типа, и первоначальную
родину верблюда бесспорно надо искать между Тигром и Евфратом или в Аравийской
пустыне. Туркмены портят физиономию верблюда, варварским образом прокалывая ему
нос и, пропуская сквозь него веревку. Приказ стать лагерем действует приятно и
освежительно на путников и на животных, сигнал же к выступлению действует
обратно. Первым подымается с места караван баши. По его приказанию, или по
знаку, им данному, все начинает готовиться в поход; даже верблюды, пасущиеся в
стороне, понимают в чем дело и часто сами спешат к каравану. При этом всего
удивительнее то, что они узнают свои тюки, своих всадников и прямо подходят к
ним. Через четверть часа все уже заняло свои места — и там, где стоял караван,
остаются лишь обглоданные кости, да пепелища импровизированных очагов. Эти следы
минутной жизни в пустыне исчезают также быстро, как и являются; иногда, впрочем,
они, вследствие каких-нибудь климатических случайностей, остаются на более
долгое время и радуют путника, случайно попавшего на такое место, напоминая ему,
что здесь не задолго до него были люди, была жизнь. Говоря об этих пепелищах, я
не могу не вспомнить, кстати, о тех громадных выжженных пространствах, которые
попадались мне в пустыне между Персией и Хивой и о которых я слышал у номадов
так много чудесного. В жаркое время года, когда вся растительность засыхает,
бывает иногда достаточно одной неосторожно брошенной искры, чтобы зажечь всю
степь: Пламя обхватывает местность с такою быстротой, что даже на лошади трудно
спастись от него; разлившимся потоком течет огонь по траве. Встречая кустарник,
с дикой яростью вздымается он кверху и только река или озеро могут остановить
пожар. Ночью это зрелище должно быть ужасно — целое огненное море освещает весь
горизонт; даже храбрейшие люди теряются. Чтобы спастись, нужно только сохранить
присутствие духа и, пока еще пламя далеко, поджечь траву перед собою и таким
образом лишить огонь пищи. Только огнем можно защититься от огня. Враждующие
племена употребляют часто такой пожар, как оружие, и ужасно бывает производимое
им опустошение! Часто также прибегает к этому средству какая-нибудь влюбленная
пара, бежавшая и желающая спастись от преследования. Средство это им удается,
если нет ветра и огонь, следовательно, подвигается медленно; но часто и
малейшего ветерка достаточно, чтобы с силой погнать пламя — тогда беглецы, не
разлученные, делаются жертвою своего собственного защитника, Замечательно, что и
самые туземцы-кочевники не остаются равнодушными к величию пустыни и к чаще
других повторяющимся в ней явлениям природы. Когда мы находились на
Кафланкирской плоской возвышенности, образующей часть тянущегося на
северо-восток Устюрта, то часто видели на горизонте красивые фатаморганы.
Отражения эти в знойном, но все-таки прозрачном воздухе представляют, бесспорно,
красивейший обман зрения. Я несколько раз любовался видом этих танцующих
городов, башен, замков, больших караванов, сражающихся всадников и отдельных
великанов, то исчезающих, то снова появляющихся в другом месте. Спутники мои,
особенно кочевники, смотрели на это явление природы в благоговейном безмолвии.
По их мнению это были тени городов ж людей, некогда здесь существовавших и
погибших, а наш караван баши утверждал даже, что он в течении многих лет в одном
и том же мест видел всегда одни и те же фигуры и, что мы, если погибнем в
пустыне, будем также через известное число лет появляться в воздухе над тем
местом, где погибнем. Это часто встречающееся у кочевников сказание о погибшей
цивилизации в пустыне, недалеко от недавно высказанного в Европе мнения, что те
страны, которые мы называем пустынею, сделались таковыми не столько вследствие
законов природы, сколько от социальных обстоятельств. В пример приводятся Сахара
и великая Аравийская пустыня, где скорее не достает прилежных рук, чем земли,
годной для обработки. Относительно последних пустынь, может быть, мнение это и
верно, что же касается до степей Малой Азии, то к ним оно неприложимо. В
отдельных местностях, как Мерв, Мангишлак, Герген и Отрар, земледелие могло
существовать несколько веков тому назад, как оно существует и настоящее время,
что же касается вообще всей пустыни Средней Aзии, то она, на сколько память
человеческая хватает, всегда была такою же ужасною и дикою как теперь.
Отсутствие воды, годной для питья, на расстоянии нескольких дней пути; на
несколько миль простирающиеся пространства, покрытые глубочайшим песком;
климатические условия — все это такие препятствия, с которыми человеческому
искусству и знанию трудно было бы бороться. «Туркестан и обитателей его», сказал
мне однажды один среднеазиат, «Бог создал во гневе, ибо, пока не исчезнет
горько-соленый вкус воды источников в пустыне, до тех пор туркестанец не изгонит
злобы и неприязни из сердца своего. » Да, злоба и неприязнь людские для
путешественника по пустыне опаснее, чем бешенство разъярённых стихий. Палящий
зной, раскаленный песок, мучения жажды, голод, усталость — все бы можно
перенести, если бы душу не волновал постоянный страх попасть на копья
какой-нибудь бродящей разбойничьей шайки, или, что еще хуже, боязнь окончить
жизнь в рабстве. Что значит могила среди песков пустыни в сравнении с медленною
мученическою смертью в плену у туркмен?
V.
Палатка и её обитатели
Один остроумный критик моего
«Путешествия по Средней Азии» говорить: «Мг. Vàmbéry wandered because he has the
wild spirit of derwishisme strong within him») (Господин Вамбери путешествовал
потому, что его сильно обуял дикий дух дервишизма.) Прочтя это, я нашел приговор
слишком строгим и всегда буду протестовать против этого деликатно выраженного
титула бродяги; но я открыто сознаюсь, что палатка, эта улиточья скорлупа
номада, оставила во мне неизгладимое впечатление. Странное какое-то чувство
испытывается, когда, среди моря неподвижных жилищ, каковы наши города, вспомнишь
о легкой палатке азиата! Порок дервишества заразителен, но не для всякого;
поэтому я не думаю, чтобы читателю было опасно последовать за мною на несколько
минут в Среднюю Азию, чтобы бросить взгляд на тамошнюю жизнь, столь во всем не
похожую на нашу.
Время около полудня. Семья
киргизов, навьючив весь свой дом и скарб на несколько верблюдов, медленно
двигается в сопровождении своего стада к месту, которое им издали указывает
всадник поднятым кверху копьем. По туземным понятиям караван покоится, когда
движется, а начинает жить, когда останавливается, т. е. когда, по-нашему,
начинает отдыхать. Старухи, сидящие на верблюдах (молодые идут пешком), не хотят
пользоваться покоем и прядут грубую верблюжью шерсть для мешков. Из молодых
только дочь невеста имеет привилегию праздно сидеть на качающемся животном. От
нечего делать она занимается чищением своего длинного, висящего на груди
ожерелья, состоящего из русских, старобактрийских, монгольских и хивинских
монет. Она так углубляется в свое занятие, что иной европейский нумизматик счел
бы ее, пожалуй, за собрата; а между тем от её внимания не ускользает ни одно
движете молодого киргиза, который, желая блеснуть своим искусством, молодцевато
носится на лошади кругом её. Наконец караван достигает назначенного места. Тут
житель городов конечно ожидает большой суматохи — ни чуть не бывало! Ни
малейшего замешательства: всяк знает свою обязанность, знает, что ему делать.
Пока отец семейства рассёдлывает свою, уже остывшую лошадь, чтобы пустить ее на
пастбище, молодые люди с страшными криками сбирают стадо овец и верблюдов в
кучу, так как уже время их доить. Палатка между тем уже снята с верблюда.
Старуха, сильно отплевываясь то вправо, то влево, устанавливает решетчатый остов
её, другая укрепляет согнутые в дугу палки, образующие верхний свод палатки, а
третья занята прилаживанием кружка, служащего и окном и дымовою трубой. Пока
палатку обтягивают снаружи войлоками, дети внутри её развешивают мешки по
стенам, разводят огонь и устанавливают над ним колоссальный треножник. Все это
занимает лишь несколько минут. Жилище кочевника устраивается как бы волшебством
и точно также, как бы волшебством исчезает. Перед палаткой между тем идет
страшный шум: крик животных, женщин, плач детей—все это вместе составляет хор,
странно звучащий среди полдневной тишины пустыни. Впрочем, доение молока — эта
жатва кочевника — бывает самым оживленным часом всего дня. Особенно много возни
с прожорливыми ребятами, у которых от беспрестанного питья молока животы
вздуваются, как барабаны. Бедные женщины, занимающиеся доением, много терпят от
нетерпеливости, или злости животных. Мужчины же стоят около, но ни один не
поможет, потому что для мужчины считается величайшим стыдом принять участие в
какой-нибудь женской работе Однажды в Этреке мы набрали маленький мешочек
пшеницы; я, придя домой, хотел ее смолоть на ручной мельнице, как вдруг туркмены
разразились громким хохотом; я сконфузился и спросил о причин смеха. Тогда один,
подойдя ко мне, дружелюбно сказал: «Стыдно заниматься женскою работой! Впрочем,
муллам и хаджи не достает светского образования, поэтому вам все извинительно».
Когда молоко собрано и
разлито в кожаные мехи (глиняная и деревянная посуда здесь роскошь), стадо
рассыпается по всей равнине. Шум постепенно утихает, кочевник удаляется в
палатку, приподнимает немного нижний край войлока, и пока западный ветерок, с
шелестом проходя сквозь решетчатый остов палатки, навевает сладкий полуденный
сон на её хозяина, женщины вне палатки прижимаются за работу — доканчивать на
половину уже готовый кусок войлока. Весело смотреть, как шесть, а иногда более,
свободных дочерей пустыни, стоя плотно в ряд, сильным движением ног валяют
завернутый в тростниковую циновку войлок. Передняя из работниц, женщина
постарше, бьет такт и ведет эту пляску; она всегда отлично знает, где, в каком
месте ковер выйдет плох и не так плотен. У кочевников Средней Азии приготовление
войлока, этой бесспорно простейшей материи, какую когда-либо измыслил ум
человеческий, остается в том же положении в каком оно должно было при самом его
изобретении. Любимый цвет войлока серый, пестрый — роскошь; а белый
употребляется только в торжественных случаях. Ковры, встречающиеся только у
богатых номадов — у туркмен и узбеков, требуют уже более искусства или больших
столкновений с цивилизованным миром; рисунки для них заимствуются с платков и
ситцев европейской фабрикации. Я всегда удивлялся, как искусно здешние женщины
копируют эти рисунки, или, что еще замечательнее, делают их на память, всего
только один раз увидев образец. Пока несчастные женщины трудятся до изнеможения
за тяжелыми работами, хозяин дома продолжает почивать. Между тем стадо подгоняют
к палатке, и только что станет немножко попрохладнее, как все в одно мгновение
ока разбирается, накладывается на верблюдов и двигается дальше. Это уже второй
дневной переход, а между тем и люди, и животные так бодры, как будто они годы
сидели на одном мест и, соскучившись, ищут перемены. Много спустя по захождении
солнца, когда над необозримым горизонтом пустыни раскинется блестящий звездный
шатер, кочевники останавливаются, чтобы провести холодные ночные часы под теплым
войлочным одеялом. Живо устанавливается на огонь колоссальная кухонная батарея и
еще живее опоражнивается. О гигантском аппетите кочевника европейцу трудно
составить даже приблизительное понятие. Едва прошел час с остановки каравана,
как все уже поужинали, помолились и улеглись спать: старшие в палатке, младшие
под открытым небом, вокруг стада. Но где есть взрослая дочь-невеста, там
обыкновенно бывает несколько иначе. У кочевников не могло еще пустить корни
строгое veto ислама относительно обхождения с женщинами. Гаремы здесь еще не
существуют и молодой кочевник отлично знает по какой звезд держать путь, чтобы
среди бесследной пустыни найти палатку своей возлюбленной. Появление его редко
бывает неожиданно — и девушка чует, с какой стороны в тихой ночи зазвучать
конские копыта, и всегда занимает передовой пост в том направлении. Сомненья
нет, что нежная беседа двух детей пустыни не вполне соответствует нашим
эстетическим понятиям, но поэзия есть везде, и у кочевников она, можно сказать,
даже более дома, чем у нас, на западе. Часто случается, что собираются несколько
влюбленных пар вместе, и общий разговор, украшенный дикими татарскими метафорами
и непременно рифмованный, бывает иногда бесконечен. Сначала беседы эти мне
нравились, но потом надоедали, ибо происходили в одной палатке со мною и, не
смотря на всю мою усталость, не давали мне спать. Я представил читателю слабый
очерк жизни номадов в хорошее время года, а зимой, особенно в верхней Азии, где
бывают сильные холода, эта бродячая жизнь теряет всю свою поэзию. Даже туземцы,
жители городов, удивляются, как могут кочевники жить на свобод во время таких
страшных бурь и целые недели продолжающихся снегов. Жить в палатке при холоде в
300 Реомюра должно быть не особенно приятно, но закаленному сыну
пустыни это нипочем. Он закутывается в двойную одежду, ставит палатку где-нибудь
в овраг или другом месте, более защищенном от ветра, обтягивает ее двойным
войлоком, зажигает саксаул (тяжелый, узловатый древесный корень) и, когда
начинает от огня и от скучившейся семьи распространяться теплота, совершенно
забывается недостаток более прочного жилища. Все тесным кружком усаживаются
вокруг очага; старшая дочь обносит беспрестанно мех с кумысом, этим любимым
напитком кочевника, веселящим сердце и развязывающим язык, а если к этому да
придет еще бакши (трубадур) своими песнями скоротать вечерок, то и дикое
завывание ветра покажется музыкою. Если какие-нибудь чрезвычайные атмосферные
явления, как песчаные ураганы, снежные вихри, не нарушают обычного течения
жизни, то кочевник чувствует себя таким счастливым, каким, можно сказать, не
сделает его никакая цивилизация в мире. Вообще у всех жителей Средней Азии
потребности так незначительны, что бедность здесь встречается очень редко, а
такой тяжкой бедности, как у нас, и примеров нет. Если бы не сильная наклонность
к войне и грабежу, то жизнь кочевников могла бы протекать тихо и спокойно. Война
— везде несчастие, а здесь её следствия так бывают ужасны, что трудно
вообразить. Часто одно племя, чувствуя себя сильнее другого, вдруг без малейшей
причины нападает на него. Все носящие оружие или побеждают, или падают мертвыми,
а жены, дети побежденных и стада их идут в добычу победителям. Как часто
случается, что иная семья ложится спать довольная и счастливая, а наутро,
лишенная отца, матери, свободы, имущества, живет уже врозь, далеко один от
другого. У туркмен близ Хивы я видел в неволе много киргизских семейств, бывших
некогда зажиточными. Несчастные так покорились своей судьбе, как будто неволя
для них была законом природы. Они так преданы были интересам своего хозяина, так
ласкали и любили его детей, а между тем человек этот похитил их, убил их отцов и
самих их на век заклеймил позорным именем куль (раб). Буддизм, христианство и
ислам поочередно пытались проникнуть в степи верхней Азии. Первый и последний
укрепились в ней, но, не смотря на это, среднеазиатский кочевник продолжает
оставаться таким же, каким он был во время арабского завоевания, или походов
Александра Великого, и каким нашел его Геродот. На век останутся для меня
незабвенными часы, проведенные мною в исторических беседах со старыми киргизами
и туркменами. Нарисовать себе картину первобытнейшей простоты нравов есть
возможность, но все это будет не то, когда увидишь перед собою живой памятник
цивилизации, за несколько тысячелетий предшествовавшей нам. Среднеазиат говорит
о Рум (нынешняя Турция), как говорил о нем во времена цезарей: слушая
какого-нибудь седовласого старца, как он описывает величину и силу этого
государства, можно подумать, что он не далее, как вчера участвовал в бою
непобедимых легионов c парфянами. Он так привык со словом Рум связывать понятие
о величии, что никак не поверит, чтоб его Рум терялся перед древним Римом. По
его понятиям, только разве один Китай может быть сравнен своим могуществом с
Румом, хотя, впрочем, все предания и сказки о Китае говорят более об искусствах
и красот его жителей, чем об их храбрости. На русских смотрят, как на
совокупность хитрости и лукавства, с помощью которых и сделаны все новейшие их
приобретения. Относительно англичан известно, что умерший бухарский эмир при
первом знакомств с англичанами очень рассердился на то, что «ингилизы, которых
имя только что стало еще известным, осмелились перед ним назвать себя девлетом
(правительством).» Чужеземца в Средней Азии в высшей степени поражает
гостеприимство её жителей, какого, пожалуй, еще не встретишь на востоке. У
турок, персиян, арабов осталось только слабое воспоминание об этом древнем
обычае и наши европейские туристы имели, я думаю, полнейшую возможность
убедиться, что омовение ног, заклание овец делаются только в надежде на хороший
бахшиш или пишкеш, как говорят в Персии. Хотя Коран говорит: «почти гостя, если
он даже и неверный», но почитание это не редко бывает эхом посланнических, или
консульских приказаний. В Средней Азии совсем не то. Гостеприимство, так
сказать, прирождено её жителям: они могут быть дики, жестоки, вероломны, но не
быть гостеприимными не могут. Во время пребывания моего у туркмен, один из моих
нищих спутников, ходя целый день по окрестностям за подаяниями, вечКромезашел в
отдельно стоявшую палатку, чтобы провести в ней ночь. Принят он был, по обычаю,
дружелюбно, но скоро заметил, что хозяин чем то расстроен и в смущении бегает
взад и вперед, как бы ища чего-то, Нищий стал уже было пугаться, как вдруг
туркмен подошел к нему и, краснея, попросил в займы несколько кран, чтобы
приготовить ужин, говоря, что у него нет ничего, кроме сушеной рыбы — очень
плохого блюда для гостя. Отказать, разумеется, нельзя было. Товарищ мой достал
из-под лохмотьев свой кошелек и дал хозяину пять кран — тем дело пока и
кончилось. После дружеской беседы и ужина, гостю указали на мягчайший войлок для
спанья, а утром с честью проводили. «Едва я отошел на полчаса от палатки), так
рассказывал мой приятель, «как вдруг подбегает ко мне какой-то туркмен и с
угрозами требует мой кошелек. Каково было мое удивление, когда я в разбойнике
узнал моего вчерашнего хозяина! Я думал он шутит и заговорил с ним по дружески,
но он продолжал в том же тоне. Чтоб избежать дурных последствий, мне ничего не
оставалось делать, как отдать разбойнику мой кошелек, несколько крупинок чая,
гребень, ножик, все, что у меня было. После этого я хотел продолжать далее путь,
как вдруг туркмен остановил меня, раскрыл мой, т.е. уже свой кошелек, вынул из
него пять кран и, отдавая их мне, сказал: «на, вот возьми мой вчерашний долг, —
теперь мы квиты. Moжешь идти дальше».
VI.
Хивинский двор.
Дворы восточных властителей,
от берега Босфора до Пекина и Иеддо, блеск золота и алмазов в их дворцах,
пышность и великолепие восточной жизни — давно и несколько раз уже описаны. Не
достает только сведений о придворной жизни туркменских правителей, поэтому,
думаю, очерк её не будет лишним. Хотя глаз здесь не встречает ничего поражающего
блеском; ошеломляющего, изумляющего, но, тем не менее я надеюсь, никто не
раскается, последовав за мною по кривым улицам Хивы через крытый базар в арк —
ханский замок. Как все жилища среднеазиатских повелителей, арк сильно укреплен и
окружен двойным рядом стен. Пройдя узкими воротами, мы вступаем на первый двор,
наполненный телохранителями и другими солдатами и служителями. Вблизи от входа
лежат две длинные пушки, недурно украшенный симметрическими фигурами, сделанные
вероятно в Дели. Привез их сюда могучий Надир и здесь же при своем поспешном
отступлении бросил. Пройдя вторые ворота, вы очутитесь на другом, довольно
просторном уже дворе. На одном конце его стоит неказистое здание, похожее на
открытый каретный сарай — в нем заседает высшее чиновничество под
председательством матера (министра внутренних дел); влево от этого здания стоит
нечто вроде караульного дома днем наполненного солдатами, полицейскими и
палачами, ожидающими ханских приказаний. Между обоими этими постройками простая
скромная дверь ведет в самое жилище его хивинского величества. Снаружи жилище
это, такое же, как и остальное дома в городе, — оно похоже на бедную мазанку,
разумеется, без окон. Внутри тоже нет особенной роскоши: только несколько
больших ценных ковров, диванов, круглых подушек, да множество сундуков, что и
составляет всю меблировку дворца, напоминают о сане владельца дома. Комнат
немного и он разделяются на две половины: гарем и селамдшай (приемная). Никакой
особенной пышности нигде не заметно. Единственным знаком ханского достоинства
служит целая толпа челяди и лакеев, поэтому мы ими и займемся. Во главе
управления домом стоит дестурхандшии (буквально: расстилающий скатерть),
которого должность состоит собственно в смотрении за ханским столом, в
присутствовании в полной форме при обеде и в наблюдении за всеми другими
служителями; за ним идет мехрем, по должности нечто в род камердинера, а на
самом деле тайный советник, кроме домашних дел вмешивающийся в государственный и
имеющий большое влияние на хана. После этих двух следуют остальные слуги, каждый
с своею определенною должностью: ашпес (повар) приготовляет кушанья; ашмехтер
подает их на стол; шербетши де лает чай, шербеты и кроме того должен быть
опытен в приготовлении разных элексиров, чудодейственных декоктов; пайеке
заведывает чнлимом — ханским кальяном, делаемым из серебра или золота, и
наполняемым при каждой набивке свежей водой. При других среднеазиатских дворах
должности этой не существует, ибо употребление табака строго запрещено законом.
Хотя будуара его татарское величество не. имеет, но при туалет его прислуживают
ему многие «услужливые духи»: шилаптши, стоя на коленах, держит лоханку;
кумгандши льет воду из серебряного пли золотого сосуда, а румальдши кончиками
пальцев держит полотенце и ловко набрасывает его своему повелителю на руки,
когда первые двое исчезают из комнаты; кроме того есть специальный сертараш,
который бреет хану голову и должен особенно искусно уметь руками обжимать ему
череп, что особенно любят восточные жители, тернактши, который обрезает хану
ногти, и хадимдши, который, когда хан сильно утомится от дел, коленами
расправляет члены его величества, т.е.;, становясь ему коленами на спину, мнет
ему все тело, так что кости трещат. Наконец тешектши приготовляет постель хану,
т. е. разстилает мягкие войлоки или матрацы. Великолепная верховая сбруя и
оружие находятся под надзором казнадши, который при торжественных выездах
находится вблизи хана, а во главе свиты в таких случаях идет дшигадши, несущий
султан из перьев. Одежда и кушанье хана отличаются очень немного от одежды и
кушанья богатых купцов и знатных чиновников. Хан носит такую же тяжелую баранью
шапку, такие же неуклюжие сапоги, набитые несколькими аршинами тряпок, и такой
же ситцевый или шелковый кафтан, подбитый толстым слоем ваты, какие носят и
подданные, и, точно также, как они, потеет он в страшные июльские жары, ходя в
этом костюме, годном разве для Сибири. Вообще положение хоросанского властителя
также незавидно, а пожалуй еще и жалче, чем доля остальных восточных владык. В
стране, где грабеж, убийство, анархия, беззаконие — вещи обыденный, личность
правителя может только внушать панический ужас, а не быть любимой. Все, даже
приближенные хана, боятся его безграничной власти, а родственники, жены и дети
нередко злоумышляют на его жизнь. Кроме того, он должен быть образцом всех
исламистских добродетелей и узбекской нравственности, — иначе каждое
незначительнейшее нарушение их со стороны хана делается предметом городских
толков. Разумеется, порицать хана никто не смеет даже и за более крупные
проступки, но они оскорбляют мулл, имеющих большее влияние на народ, что
противно выгодам хана. Как всякий правоверный, хан должен вставать с постели до
солнечного восхода и принимать участие вместе со всеми в утренней молитве,
продолжающейся более получаса. Затем он кушает несколько чашек чая,
приправленного жиром и солью. К чаю приглашаются часто некоторые ученые муллы:
они должны оживлять завтрак его величества своими объяснениями священного
закона, или решением других религиозных вопросов — из всего этого, конечно, его
величество весьма редко что-нибудь понимает. Глубокомысленный рассуждения эти
обыкновенно навевают сон на хана; когда он начинает храпеть, ученые мужи
удаляются, Это называется утренним отдыхом и продолжается 2—3 часа. По
пробуждении начинается селам (прием) министров и других чиновных лиц. Хан
вступает в исполнение своих обязанностей правителя: тут обсуждаются
предпринимаемые разбойничьи набеги, занимаются высшею политикой относительно
Бухары, иомут и чаудор-туркменов, а теперь вероятно и русских, все ближе и ближе
к ним подступающих, или требуются отчеты от губернаторов провинций, или от
весьма искусных в своем дел сборщиков податей. Отчеты должны быть весьма
аккуратны, ибо за малейшую ошибку можно уйти без головы. После нескольких часов
таких государственных занятий подается собственно завтрак, состоящий большей
частью из легких кушаний, т.е. легких для узбекского желудка, ибо этого déjeuner
к 1а fourchette его хивинского величества хватило бы для утоления аппетита
нескольких здоровенных наших носильщиков. Присутствующие должны почтительно
стоять кругом хана, а по окончании завтрака некоторые Фавориты удостаиваются
приглашения сесть и сыграть несколько партий в шахматы с его величеством. Так
время проходит до полуденной молитвы, продолжающейся около часа. По окончании
её, хан выходит на передний двор, садится на возвышении в род террасы, и
начинается арс (публичная аудиенция), к которому допускаются люди всех сословий
и состояний, мужчины, женщины, дети, во всевозможных костюмах, даже чуть не
голые. Толпа теснится у входа со страшным шумом и гамом. Впускают народ по
одиночке; вошедший подходит очень близко к хану, держится свободно, излагает
свою просьбу, возражает, даже вступает иногда в сильный спор с ханом не смотря
на то, что достаточно одного кивка хана, чтоб отдать спорщика в руки палача.
Так, восток был и есть страна резких противоречий. Неопытный человек увидит в
этом, пожалуй, любовь к правосудию, но я в этом вижу только лишь один каприз
властителя, ибо одному дозволяется в жестких выражениях опровергать хана, а
другой лишается жизни за малейшее нарушение благочиния. На арс решаются не одни
крупные дела, кончающиеся, например, смертным приговором, тут же исполняемым, но
улаживаются и мелкие семейные, домашние ссоры: сосед тянет соседа к суду из-за
нескольких грошей, соседка соседку из-за украденной курицы — отказа никому нет.
Конечно, хан может отослать каждого к кади, но должен предварительно сам
выслушать дело. Поздняя послеобеденная молитва полагает конец этому
утомительному судилищу. Следующие за тем часы употребляются для верховой
прогулки за город, но к солнечному закату хан должен быть уже дома. Четвертую,
вечернюю молитву хан совершает, как и первую, в обществ своих придворных, а за
тем удаляется ужинать. Служители и все, не живущие во дворце, уходят, и хан
остается один со своими приближенными. Вечерний стол бывает роскошнее и тянется
дольше. Спиртные напитки редко употребляются владетелями Хивы и Бухары, но
остальные члены ханского дома и вельможи позволяют себе в этом отношении больше,
чем бы следовало. После ужина являются певцы, музыканты, или какие-нибудь
штукари и потешают хана. Первые особенно любимы в Хиве и славятся не только во
всем Туркестане, но даже на всем исламистском востоке Азии. Инструмент, на
котором они отличаются, называется гирдшек. Он похож вообще на нашу скрипку, но
у него гриф длиннее и, вместо четырех, три струны — одна проволочная и две
шелковых; смычок также похож на наш. Кроме этого инструмента играют еще на
барабане и дутаре, на которых бахши (трубадуры) аккомпанируют своему пению.
Перед народом воспеваются обыденные герои, при дворе же поют большею частью
что-нибудь из «Невайи) и персидских поэтов; так как молодые принцы ханского дома
обучаются музыке, то хан часто заставляет их спеть что-нибудь одних или вместе с
придворными трубадурами. Но особенной веселости, как на пирах в Тегеране или во
дворцах Босфора, при дворе узбекских властителей вы не встретите, — она здесь не
известна или, по крайней мере, не в обычае. Татарин по природе важен и серьёзен:
скачки, танцы и другие подобные забавы по его мнению, достойны только женщины
или ребенка. Я даже не видал ни одного важного узбека, который хоть бы раз
хохотал от души. Часа два спустя по захождении солнца хан удаляется в гарем или
в свою спальню и тем заканчивается день хивинского владыки. Гарем здесь далеко
не то, что при турецком, или при персидском дворе. Число жен весьма ограничено,
волшебного колорита гаремной жизни не существует совсем, а целомудрием и
чистотой нрав хивинский двор далеко превосходит остальные дворы востока.
Законных жен у нынешнего хана только две, хотя по Корану ему дозволяется иметь
четырех. Избираются он всегда из ханского рода и чрезвычайно редко бывает, чтобы
хан взял себе в жены дочь какого-нибудь вельможи, не принадлежащего к его роду.
Хотя хан такой же неограниченный властелин над женою, как и над всеми своими
подданными, но с нею он обращается очень мягко, если за ней нет каких-нибудь
особенных грешков. Жена хана не имеет ни титула, ни преимуществ особенных.
Обстановка её отличается от других гаремов только числом служительниц и
невольниц. Служительницы — жены и дочери чиновников, а невольницы — большею
частью персиянки, и очень мало темнокожих аравитянок; а так как эти, особенно
дочери Ирана, далеко уступают в телесной красот узбекским дамам, то супруге хана
нечего бояться соперничества. Что касается до соприкосновения с внешним жиром,
то в этом отношении хивинские повелительницы пользуются меньшей свободой, чем
жены других властителей востока. Вышеупомянутая целомудренность требует, чтоб
жена хана проводила большую часть дня в гареме, где на наряды и туалет тратится
относительно мало времени, потому что обычай туземный требует, чтоб одежда,
ковры и т. п. вещи, употребляемые ханом, если не все, то по крайней мере большею
частью, сделаны были руками его супруги. Это напоминает обычаи древней,
патриархальной жизни, от которой у туркестанцев, не смотря на их грубость,
сохранилось еще много хорошего. Выезды и прогулки хивинской властительницы
ограничиваются только посещением увеселительных замков и летних дворцов,
находящихся вблизи города ездит она туда не верхом, как в Персии, а в пестро
размалеванном закрытом экипаже, обвешанном красными коврами и платками. Впереди
и сзади экипажа едут несколько всадников, с белыми палками в руках. При проезде
её все подымаются почтительно с мест и приветствуют ее низкими поклонами.
Дозволить себе заглянуть в карету никому и в голову не приходит, да и увидеть-то
ничего нельзя было бы, благодаря ревнивым коврам и платкам. Дерзкий, впрочем,
поплатился бы жизнью, будь то даже жена простого любого чиновника. При прогулке
жены персидского хана, ферраши (слуги), открывающие шествие, обыкновенно
разгоняют толпу любопытных щедрыми ударами направо и налево. У узбеков это
совершенно не нужно, потому что у них гаремная жизнь не так строго соблюдается,
а как известно, чем менее строги законы гарема, тем нарушения их реже. Лето
ханское семейство проводить в увеселительных замках Рафенек и Ташхауз,
выстроенных в персидском вкус прежними ханами. Замки эти отличаются своими
оконными стеклами и небольшими кусками зеркал; последние в глазах хивинцев
величайшая роскошь Ташхауз построен не без вкуса. Он стоит среди большого сада,
в котором устроено несколько резервуаров с водою; вообще он сильно напоминает
собою замок Нигаристам, находящийся вблизи, от городских ворот (Шимран)
Тегерана. Зиму хан проводит в городе, но и здесь его узбекское высочество
предпочитает жить в палатке, что впрочем обличает в нем недурной вкус, ибо
легкая, круглая, из белоснежного войлока палатка с весело пылающим среди её
огнем, не только также тепла, как и другие хивинские жилища, но как то особенно
привлекательна, уютна и не производит такого тяжелого впечатления, как темные
туркестанские мазанки, в которых и окон даже нет.
VII
Радости и горе.
Радости и горе служат
бесспорно наилучшим зеркалом, в котором всего яснее отражается характер народа.
В радостях и в горе притворство исчезает, человек является самим собою, и свет,
и тени выступают рядом, потому что где замешано в дело чувство, там нельзя
говорить и делать не то, что оно велит. В великой семь всего рода человеческого
есть три момента, в которые лучше всего можно наблюдать проявления радости или
горя — это родины, свадьба и погребете. Моменты эти в общих чертах сходны у всех
людей, но в колорит и в проявлении их разнятся между собою даже образованные
народы. Светоч этнографии не раз освещал этот предмет в разных частях света, но
Средней Азии свет его еще не коснулся и потому даже слабые искорки могут быть не
лишними. Если дикий полинезиец и житель Центральной Африки не укрылись от глаза
наблюдателя, то с дикого, недоверчивого среднеазиата также нужно сдернуть
покров. Предлагаемая попытка — первая, поэтому слабая.
Родины.
Почувствовав первые родовые
боли, жительница Средней Азии, я разумею, оседлая, посылает тотчас за соседкой,
ближайшими родственницами, бабкой и нянькой. В палатке или в комнате
расстилается новый войлок, или ковер, на который родильница садится, подогнув
под себя ноги. Когда родовые боли начнут усиливаться, ближайшие родственные
родильницы садятся на землю вокруг неё, а она обвивает руками шею лучших своих
приятельниц. Бабка в это время берет родильницу и раскачивает ее до тех пор,
пока ребенок не явится на свет, После этого родильницу укладывают в постель. За
больной ухаживают родственницы, а новорожденного берет на свое попечение бабка.
Больной растирают виски и пульсы, чтобы возвратить ей силы; ребенка закутывают и
укладывают тоже, потом бабка из новой холстины выкраивает пеленки и обвивает ими
ребенка, строго соблюдая при этом разные суеверные обряды. Обрезки от пеленок
подаются матери и при этом сообщают ей о поле и состоянии ребенка. Отцу
возвещается радостная весть таким же точно образом и непременно киндиккесой
(кроящей пеленки), которая во всем этом играет очень важную роль и за радостное
известие получает подарок. Три дня ребенок никому не показывается; его учащенно
натирают маслом и промывают глаза соленою водою, чтоб они не покраснели, что
здесь считается отвратительным. На четвертый день на ребенка надевают первую
рубашку и, положив его на верблюжью шерсть, выносят на показ. Начинаются
посещения друзей и знакомых. Муж делает какой-нибудь подарок родильнице, а она
со страхом прислушивается к предсказаниям гостей о будущности ребенка, которую
опытные матроны стараются прочесть по членам и движениям новорожденного. Дурно,
например, если ребенок появился на свет вперед левой рукой или ногой. Слишком
маленькое глазное яблоко предвещает, что ребенок будет вор; широкий лоб
предвещает храбрость, а неспокойное сучение ножками — богатство, и т. д. Все с
многозначительным видом подходят к ребенку и всматриваются в него, и если бы
мать собственноручно не навязала ему на левую ручку беленького волшебного
камушка, то обмерла бы от страха перед дурным глазом. Празднества начинаются по
прошествии чилле (40 дней); если родится девочка, то они незначительны; если же
мальчик, то и самый даже бедный человек старается назвать как можно больше
гостей и как можно лучше и роскошнее угостить их. Большой пир, скачка, борьба,
музыка — необходимые принадлежности каждого торжества, но собственное
празднество по случаю родин называется алтин-кабак и состоит в следующем: на
верхушку высокого дерева вешают серебряный или золотой шар и кто его сшибет
пулей ли, стрелой ли, тот получает кроме этого шара еще несколько овец, а часто
даже верблюдов и лошадей. По прошествии первого года, во время которого ребенка
тщательно охраняют от кошек, злых духов и т. п. опасностей, помянутый беленький
камушек заменяется кругленькою косточкой, на шапку же навешивается аргуштек
(таинственный резной и размалеванный кусочек дерева), нуеха (амулет), непременно
написанная каким-нибудь ученым, несколько кораллов, зуб гиены и — если
обстоятельства позволяют — маленький мешочек со священною землей с могилы
Магомета. Иногда все это составляет порядочную связку, довольно тяжелую для
маленькой головки несчастного существа, но на это никто внимания не
обращает,—напротив, мать заботится, не забыла ль она повесить еще какого-нибудь
талисмана. Время ребячьих игр в Средней Азии тянется не долго, Девочку рано
начинают учить прясть, ткать, шить, делать сыр и т. п.:, а мальчика на пятом
году сажают уже на лошадь; на десятом же, иногда и раньше, он участвует уже в
маневрах — примерных сражениях, и жокеем на скачках. Зажиточные отдают детей в
учение мулле. Когда ребенок выучится читать, тогда начинают корантай (праздник
Корана), который похож на хатемдююню у турок, с тою разницей, что у последних
празднуется, когда юноша в первый раз прочтет весь Коран, а здесь—когда он
только что приступает к чтению его.
Брак.
Не смотря на короткое
детство, мальчик начинает называться иидом (зрелым юношей) только на
восемнадцатом году, девочка — киц (девицей) на шестнадцатом. На отношения одного
пола к другому Коран не имеет ни малейшего влияния. Любовь, со всеми её чарами,
восторгами, превратностями, существует у узбеков не хуже, чем на западе. Сначала
меня самого удивляло, как может такое нежное чувство, как любовь, найти место в
душе человека, с ранней юности привыкшего к убийствам, грабежам, слезам вдов,
сирот и невольников, но в последствии я имел случай убедиться, что любовь и
всевозможный любовные похождения встречаются здесь несравненно чаще, чем во всех
остальных исламских странах. Узбек страстно любит музыку и поэзию, — как же
может он остаться чуждым любви? Ознакомившись ближе и согласившись между собою
вступить в брак, молодые люди прежде всего возвещают о том своим родителям. Если
эти изъявляют согласие, то молодой человек приступает к делу, а именно: посылает
двух свах (саучи катун) в дом родителей девушки просить её руки. Родители,
обыкновенно еще вперед извещенные, принимают посольство с почетом, говорят, что
они вполне довольны предложением, но безусловного, решительного ответа не дают.
Сказать просто «да!» считается неприличным, и юноша должен довольствоваться
намеком. После этого посольства начинаются переговоры о калым (приданом),
который жених хочет или может дать за невесту. Обыкновенно спрашивают: «сколько
раз девять?» т. е. сколько раз девять овец, коров, верблюдов, лошадей, или, как
бывает в городах, сколько раз девять дукатов отец получит за уступку своей
дочери. Бедные дают два раза девять, богатые — шесть раз девать, и только хан
один покупает свою невесту за девять раз девять. После калыма второй важный
вопрос — егинбаш, подарок жениха невесте, состоящий из восьми юзуков (колец),
тегендшина (полутиары), шекергуля (целой тиары), билесига (браслета), изирга
(серег), арабека (носоваго кольца) и оенгюллюка (ожерелья). Из этого списка
нельзя выбросить уже ничего, и вещи должны быть, смотря по условию, или из
серебра, или из золота. Таким образом выходит, что житель Средней Азии не дешево
платит за жену. Переговоры тянутся обыкновенно довольно долго. Когда, наконец,
все решено и кончено, приглашаются родственники и соседи на сговор (фатиха-той);
празднество это продолжается четыре дня — два дня у невесты и два в доме жениха.
Мулла, или какой-нибудь старец объясняет гостям все обстоятельства дела, т. е.
как велик калым, когда назначена свадьба и кончает свою недлинную речь фатихой
(благословением), после чего начинается веселье.
Все общество пирует в одной комнате, разделившись на несколько кружков. Красный
угол занимается стариками, по правой стен размещаются дамы, между тем как
девушки и молодые люди теснятся в одном уголке, большею частью около музыкантов
и песенников. Празднество состоит не из одной еды, но также из музыки, пения,
игр с песнями и скачек, играющих всегда главную роль во всех среднеазиатских
пиршествах. И старые и молодые—все принимают живейшее участие в этом состязании,
а победители получают довольно значительные призы. Скачки происходят на
пространств одного ферсаха для двухгодовалых жеребят, и трех ферсах для
полнолетних, совсем сложившихся лошадей. Выбираются всегда два селения на
вышеозначенном расстоянии одно от другого; в одном собирается вся толпа,
участвующая в празднестве, а в другое отправляется той-емини, наблюдающий, чтобы
скачущие все разом тронулись с места. Победителем считается тот, кто первый
перескачет через черту, проведенную на земле у въезда в селение, где ожидает
публика. Лошадей несколько недель приготовляют к скачкам, а скачут на них дети,
которые в этом случае надевают на себя короткий, узкий костюм, не совсем не
похожий на костюм английских жокеев. От фатиха-той до свадьбы проходить более
или менее времени, смотря по возрасту невесты. За неделю до брачного торжества у
жениха требуется тайлук — свадебные издержки. Он посылает в дом невесты мяса,
муки, рису, сала, и плодов; вскоре вслед за этим, взвалившись на несколько
повозок, отправляются туда мать жениха и ближайшие родственницы, а дня за два до
свадьбы едет и сам жених, окруженный друзьями, в праздничных нарядах, на
разукрашенных конях. Только отец жениха остается дома, но не для того, чтоб его
караулить, а чтобы приготовиться к торжественной встреч новобрачных. Б дом
невесты между тем идет страшная суматоха. Молодые женщины, превратившись на
время в поварих, усердно хлопочут около гигантского котла. Вообще количество
съестных припасов, потребляемых на узбекской свадьбе, бывает громадно, но не
менее громаден и аппетит пирующих; Пока девушки пекут и варят, юноши всячески
поддразнивают их и всевозможными шутками стараются обратить на себя их внимание.
Счастлив тот, кто получит из котла ножку, или другой лакомый кусочек — верный
знак расположения своей возлюбленной, но еще счастливее тот, кому на долю
выпадет несколько ударов полновесною ложкой, ценимых гораздо выше всяких лакомых
кусков! Неподалёку от места стряпни собирается и вся остальная публика, при чем
мужчины и женщины разбиваются на отдельные кружки. Болтовня, шутки, смех, крик,
музыка, пенье, необузданное веселье детей, блеяние овец, лай собак, ржание
лошадей, крик ослов — все это вместе составляет невообразимую сумятицу. А среди
её, силясь все и всех перекричать, раздается зычный голос шута, выкрикивающего
тяжеловесные остроты узбекского юмора. Он делается душою общества — кривлянья и
гримасы, которыми он сопровождает свои остроты, вызывают неумолкаемый хохот. То
он передразнивает кого-нибудь, то рассказывает забавный анекдот, то свищет
птицею, то мяучит кошкою. С несчастного ручьями льется пот, а он остановиться не
может и должен беспрерывно забавлять публику. Странно чрезвычайно, что жених
присоединяется к гостям только после совершения брачного обряда; первые же дни
празднества он сидит один в особенной палатке. Невеста и подруги её постоянно с
любопытством заглядывают туда; первой приятели и родственники должны изредка
помогать устраивать тайные свидания с её возлюбленным. Обряд венчания происходит
в конце второго дня, в присутствии всего общества. Мулла спрашивает свидетелей,
которых бывает по два с каждой стороны, согласны ли жених и невеста вступить в
брак; но как только начинают приступать к самому обряду, свидетели со стороны
невесты налагают свое veto и объявляют (таков обычай), что они не выдадут
вверенное им сокровище прежде, чем жених не заплатит им известную сумму денег,
или не сделает им известного подарка. Жених находит требования слишком большими
и начинает торговаться. По удовлетворении свидетелей совершается, наконец,
самый обряд. Мулла читает вслух позволение рейса (духовного начальника,
наблюдающего за исполнением церковных постановлений), свидетели, обыкновенно с
очень торжественной физиономией, клятвенно удостоверяют, что венчаемые
действительно обручены один другому; затем следует коротенькая молитва — и обряд
кончен. После этого молодая сама почует всех жирным пирогом и фруктами, а
муллам, старикам и особенно молодым людям, бывшим свидетелями дарит по белому
платку, или по одежде, или что-нибудь в этом роде. Молодой теперь также
появляется на пир, но не входит в комнату, а останавливается в нескольких шагах
перед дверью. Потом подают гигантский ужин, которым и оканчивается торжество в
дом невесты. Старички удаляются с пира, а невесту молодежь усаживает со всем
приданым в повозку и она отправляется вместе с подругами в дом новобрачного;
поезд этот называется бонуш. Путь стараются удлинить, чтоб более продлить
веселье и игры; поэтому, если расстояние до дома жениха не велико, делают объезд
часа на два пути. В передней повозке сидит молодая с своей свекровью, молодежь
скачет на резвых конях около поезда и кто первый, обскакав его кругом,
поравняется с молодой, тому кидается платок. Остальные всадники бросаются
отнимать его и гонятся за победителем; преследование кончается, когда опять он
поравняется с первой повозкой. Взятые с боя платки вешаются на голову лошади и
сохраняются долго Венгерский обычай вешать на свадьбах пестрые карманные платки
па голову лошади, вероятно, происходят отсюда. Если на дорог встретится селение,
то поезд иногда останавливают, требуя с него платы за проезд. Свекровь молодой
оделяет всех пирогами — и поезд пропускается. Среди подобных забав молодая
подъезжает, наконец, к дому своего супруга; завидев его еще издали, она должна
снова закутаться в свое покрывало и принять вместо весёлого серьёзное выражение
лица. Отец новобрачного высаживает ее из повозки и вводит в комнату, где для неё
приготовлено в одном из углов нечто в род па латки из занавесок и ковров.
Новобрачный входит за нею вслед, во второй раз снимает с жены покрывало,
показывает ее своему отцу, который за это погляденье делает ей подарки,
сопровождая его несколькими комплиментами. Затем молодые оставляются одни, но
долго еще должны они выслушивать шутки и намеки столпившихся вокруг палатки
гостей; всякий старается блеснуть остроумием и совершенная тишина наступает
только поздней ночью. У туркменов и у киргизов новобрачные, прожив несколько
дней вместе, расстаются на целый год. Муж хотя и может ходить в дом к жене, но
только ночью и таясь от всех. Кочевники думают этим придать больше прелести
первому времени после брака, следуя пословице: «потаенная вода слаще»; тут же
коренится поверье, что перворожденное дитя должно быть сильнее и красивее. Кроме
свадьбы и родин у узбеков есть еще народный праздник — норуц (новый год),
перешедший к ним от первобытных персов, У тех и других он празднуется с большою
торжественностью, но в Средней Азии бывает два норуца — старый и новый; впрочем
последний имеет мало значения. В играх, к изумлению, даже самых азартных, тоже
недостатка нет. Карты (сокти), конечно, без фигур, вывозимые из России, не
совсем еще привились, но игра ашик (бараньи бабки), похожая на европейскую игру
в кости, весьма распространена. Играют на четырех бабках и с ужаснейшим азартом.
Верхняя поверхность маленькой бабки называется тава, нижняя — алчи, а боковые —
янта рап. Положив все четыре косточки на ладонь, игрок бросает их и получает
полставки, если только две из них упадут кверху тавами или алчи; и целую
ставку—если все четыре лягут тавами или алчи кверху. Все искусство в этой игр
состоит в самом бросании, а подделка невозможна, потому что бабки часто меняют и
берут свежие. Игра эта очень любима и оседлыми и кочевниками; часта азартный
игрок спускает все свое добро и даже жену. Да, люди везде одни и т же:
элегантный европеец приносит все в жертву на зеленом столе, за rouge et noir, а
узбек на сыпучем песке играя четырьмя бараньими косточками.
Смерть.
Когда кто-нибудь из членов
семьи близок к смерти, тогда вся семья обыкновенно уходить из дома или палатки.
Мулла и старики соседи окружают умирающего и, между тем, как кругом палатки в
воздух стоит ужасный крик и стон, внутри её, среди молитв, ожидается последнее
издыхание. Когда у умирающего отнимается язык, ему, с помощью намоченного клочка
шерсти, по капле пропускают в рот воду из боязни, чтобы лишившийся возможности
говорить больной не умер от жажды. Признаками смерти считаются изменение глаз и
утончение кончика носа. Когда убедятся, что больной умер, ему подвязывают нижнюю
челюсть, потом донага раздевают и на тело накидывают покрывало. Платье умершего
уничтожается, потому что даже беднейший узбек никак не решится надеть что-нибудь
из одежды покойника. Как во всех исламистских странах, и здесь тоже труп
остается непогребенным не более 12—15 часов. Обмывание производят не на доске, а
на циновке (буриа), которая потом сжигается. Когда родня, соседи, часто даже все
селение, вдоволь наплачутся и накричатся, тело несут в могилу. У оседлых жителей
Средней Азии есть кладбища, а у кочевников каждый умерший хоронится отдельно в
пустыне, и если он был человек уважаемый, то над могилой его насыпают большой
холм (тумули); в работе этой должны принять участие все мужчины его племени. Чем
более был почитаем умерший, тем выше и больше делается холм (иоска) на его
могиле. Родственники покойного смотрят на него с гордостью и выставляют на нем в
известные праздники и в день годовщины смерти яства и подарки для бедных.
Кочевник как бы далеко не завидел такой холм, никогда не преминет пробормотать
себе в бороду коротенькую молитву за умершего. Убитых в сражении не раздевают и
не обмывают, так как кровь храброго — его краса и потому должна оставаться на
нем. Тотчас после погребения начинается простой похоронный обед, в начале
которого раздают всем иис (хлеб, поджаренный в сале), и всякий непременно должен
его сесть. На третий, седьмой и сороковой день повторяется тоже самое, а потом в
день годовщины, что соблюдается даже самыми бедными, из боязни, что за
несоблюдение этого последнего долга мертвец будет являться по ночам и укорять
оставшихся в живых за то, что они забыли созвать смертных помолиться за спасение
его души. У кочевников эти похоронные обеды играют большую роль. В течении
первого года еженедельно в день смерти, дается обед, а в самый час смерти, как я
уже говорил в моем «путешествии», женщины затягивают свои жалобные причитания.
Вообще у кочевников мертвые особенно почитаются. Могила человека, павшего в бою,
в разбойничьем набеге или при подобных обстоятельствах, долго еще продолжает
пользоваться почтением. В могильный холм втыкают древко копья покойника,
увешивают его разными пестрыми лоскутками, бараньими рогами, конскими хвостами и
разными знаками памяти; знакомые и соплеменники, проходя мимо могилы, должны
всякий раз привесить еще что-нибудь. Могилы эти (иоски) обыкновенно называют
именами погребенных в них. Вокруг них играют дети, но взбираться на них не
смеют. Говорят даже, что лошади посещают иоски бывших своих хозяев и, горюя о
них, стоят с поникшей головой, а юные воины, смотря с уважением на эти могилы,
воодушевляются их видом на геройские подвиги. Когда нам на пути встречались
подобные холмы, то все до единого человека из нашего каравана отрывали от одежды
своей по лоскутку и вешали их на древко копья, воткнутое в могилу, или на
растущий на ней куст, а иногда все хором пропевали гимн, восхвалявший покойного,
при чем наш караван баши всегда говаривал: «Это не почитает мертвых, никогда не
будет почтен живыми!»
VIII
Дом и двор, пища и одежда.
Обычай строить дома, т. е.,
постоянный жилища, до сих пор еще не утвердился в Средней Азии, даже в тех её
местах, где оседлость существует в течение уже целых столетий. Часть населения
строит дома действительно, но они считаются мрачными, наводящими уныние и
предпочитается им легкая палатка. Поэтому мы находим постройки преимущественно
только у узбеков, которые возводить их научились от первобытных тамошних жителей
— персов; а так как эти последние во многом очень походили на жителей Ирана, то
и строительное искусство Средней Азии походит, следовательно, на коренное
иранское, а во многом даже и на новоперсидское. При постройке дома, прежде всего
уравнивают и утрамбовывают то место, где он будет стоять. Фундамент кладется
только при постройке больших зданий, а в обыкновенных случаях вместо него
делается широкая, вышивною в 2 фута насыпь из свежего кала. Когда она высохнет и
отвердеет, на ней возводят стены, подложив предварительно под них дерево, или
тростник, для предохранения их от сырости. Самые стены бывают двоякого рода: из
глины или камней, и ахчуб — из тонких деревянных брусков, в вид решетки,
промежутки которой .закладываются необожженным кирпичом и глиною. Потолок
состоит из плотно примыкающих одно к другому бревен; у богатых его сверху
накрывают еще гипсом и известью. Место окон занимают маленькие отверстия, летом
открытый, а зимой залепляемые бумагой, пропитанной маслом. Крыша, как и в
Персии, терассообразна и точно также служит спальною в жаркие летние ночи.
Профессии особых строителей здесь нет. Каждый воображает, что он достаточно
наделен архитектурными познаниями для того, чтоб выстроить, что ему нужно. А так
как отвес еще не известен, то и не удивительно, что все стены кривы, вогнуты,
выгнуты и скоро очень разваливаются. Внутреннее расположение дома следующее:
широкие ворота, служащие главным входом, ведут в крытый проход, именуемый далан.
По правую его сторону, тотчас у ворот, устраивается одна или две больших
комнаты, служащие для приема гостей (mihman chane); в них сохраняется оружие и
более употребительные вещи из домашней утвари. Далее, по той же сторон идут еще
две небольшие комнаты — кладовые для съестных запасов. На лево от ворот
помещается сарай и конюшня, а в глубин далана, прямо против входа делается
маленькая дверь, ведущая во внутренние покои или гарем. Последние большею частью
с одной или с двух сторон совершенно открыты и почти всегда выходят в сад.
Летом, в городах он служит любимым местопребыванием, и действительно в них очень
приятно быть, особенно ночью, когда над постелью ставится пешехане, особая
четырёхугольная палатка из легкой, прозрачной материи; на совсем открытом воздух
можно простудиться, а простуды в Средней Азии, как и в Персии, опасны. Не в
город дома стоят более разбросанно. Каждый хавли (двор), состоящий из нескольких
частей, обнесен всегда высокой зубчатой стеной, что делает его похожим на
маленькую крепостцу. Внутри двор бывает всегда очень просторен. На одной сторон
его стоят строения, а на другой — палатки, так как и здесь первые служат
исключительно для помещения животных и запасов. Иногда дворы бывают так обширны,
что на них разводят небольшие огороды. Вне стен, невдалеке от них, устраивается
обыкновенно большой резервуар воды, берега которого, засаженный платанами, летом
представляют самое привлекательное место для отдыха. В этой части Азии платаны
растут удивительно хорошо и достигают громадных размеров в толщину и в вышину.
Между ними попадаются часто 300 — 400-летния деревья, дающие в удушливую летнюю
жару чудную прохладную тень. Узбек может целыми часами спокойно спать под ними,
ибо листва их защищает его от солнца, а веющий всегда внизу ветерок разгоняет
мучителей насекомых. Все убранство дома состоит, как и в Персии, из ковров,
войлочных одеял, больших красных сундуков для платья, небольшого количества
котлов и другой кухонной посуды и сосудов для воды. Роскоши или великолепия не
видно ни в чем. Единственные встречающиеся нововведения — двери и окна заносятся
сюда иногда из Персии каким-нибудь невольником искусником. Из Европы может сюда
что-нибудь дойти разве только предварительно прошедши через весь строй Турции и
Персии. Персияне заимствуют европейское устройство у турок, а среднеазиатские
народы довольствуются тем, что лишь доходит до них из Персии. Пища татар состоит
преимущественно из мясных кушаний; в иных местах хлеб если не совсем неизвестен,
то по крайней мер составляет редкое лакомство. Любимое мясо — баранье; за ним
идет козье, бычачье, лошадиное, а верблюжье ценится ниже всех. Лошадиное мясо и
здесь святошами иногда считается мекрух (скверным) и в пищу не употребляется, но
негорожане менее разборчивы: у них торама — мягко разваренное лошадиное мясо с
луком, репой и прибавкой муки — считается даже очень любимым кушаньем.
Удивительно, что крепкий бульон из лошадиного мяса даже для татарского желудка
слишком тяжел, и потому первый навар с него сливают и едят лишь второй. В иных
местностях из лошадиных кишок делают колбасы, считающиеся лакомым кушаньем, но я
ни разу не замечал, чтоб лошадиные внутренности были так любимы узбеками, как
это утверждают в Персии. Верблюжье мясо, очень жесткое и вязкое, прежде всего
мелко рубится, потом варится в хлебных лепешках, и затем уже обжаривается в
сале. Кушанье это, называемое сомза, не совсем безвкусно, но на наш желудок
ложится камнем.
Всеми любимым, национальным
кушаньем всегда есть и был у них палау или аш; оно сродни персидскому пилау и
турецкому пилафу, но вкусом далеко превосходит и тот и другой. Я долго им
питался и хочу дать европейцам маленькое наставление, как приготовлять его.
Растопив в котелке несколько ложек сала (в Средней Азии употребляют для этого
сало курдюков), бросают в него мясо, нарезанное мелкими кусками. Когда оно на
половину поджарится, на него наливают на три пальца воды и варят до тех пор,
пока мясо не сделается мягким. В котелок подбрасывают несколько перцу и репы,
нарезанной тоненькими кусочками, а потом засыпают все рисом, из которого
предварительно выбирают хорошенько весь сор. На рис наливают опять воды и, когда
он впитает ее в себя, огонь тушат, котелок плотно закрывают и оставляют на
угольях, чтоб все хорошенько размякло от пара. Через полчаса крышку снимают и
все выкладывают на блюдо, так чтоб отдельные слои не перемешивались: внизу рис,
плавающий в сале, затем репа, a сверху мясо, с которого и начинают есть. Кушанье
это превкусно и без него обед немыслим, как во дворце, так и в беднейшей хижине
по всему пространству отсюда до земли афганцев, а так как эти последние
познакомли с ним персиян, то в Иран оно носит название кабули (кабулистанец).
Если я не ошибаюсь, родина пилафа в Средней Азии, и он отсюда уже
распространился далее на запад Азии.
Второе национальное кушанье
татар — бёрек, суп с лепешками, начиненными рубленым мясом и пряностями. Хотя я
называю его супом, но оно заменяет целый обед, ибо его обыкновенно столько едят,
что легко можно обойтись без других блюд. у османли кушанье это также известно
под названием татар бёрек.
Третье блюдо — шеёле, жидкое
кушанье из риса с мясом и сушеными фруктами.
Четвертое — буламук, простая
смесь муки, воды и сала.
Пятое — местава, рис,
разваренный в кислом молоке. Это кушанье — летнее, а предыдущее— зимнее.
Кроме этих, делают еще:
ярма—толчёные хлебные зерна, разваренные в молоке; гёдше — кашеобразное кушанье
из Halens sorghum'a; и машава — тоже каша, которую едят с салом, а иногда и с
растительным маслом. Вообще преобладают кушанья тяжёлые, питательные и сильно
пряные. Сладкого едят мало, так как сахар и мед неизвестны, а разнообразные
ширес (сиропы) из винограда, дынь и других плодов, употребляются чрезвычайно
редко. Хлеб печется, как и во всей Азии, только в количестве, необходимом для
дневного продовольствия. Тесто не раскатывают в такие тонкие лепешки, как в
Персии, а делают нечто подобное тем круглым крутым хлебам, которые пекутся около
Эрзерума и называются лаваш. Кроме того, для дороги употребляется еще нечто в
род сухарей, обжаренных в сале. Относительно напитков у оседлых жителей Средней
Азии главную роль играет чай, а у кочевников, особенно киргизов, кумыс. Первые
пьют летом зеленый чай, разжижающий кровь и способствующий пищеварению, а
зимой—кирпичный чай, к сильно возбуждающему действию которого и горькому вкусу
трудно привыкнуть, и который, по всей вероятности, очень вреден. Кроме чая, в
вид прохладительных напитков, употребляют ейран, разжиженное водою кислое
молоко, и разные настои из сухих плодов. Кофе совершенно неизвестен; даже в
Персии он получил право гражданства только в южной провинции Фарс и в Ираке,
между высшими классами общества. Из спиртных напитков хотя и употребляются в
больших городах водка и вино, тайно фабрикуемые жидами, но число потребителей их
чрезвычайно ограничено. Строгие законы ислама под страхом смерти запрещают
употребление крепких напитков, но порока тем не искореняют, ибо кто хочет
возбудительных средств, тот прибегает к опиуму, териаку, или другим
наркотическим ядам, и таким образом законы, пресекая меньшее зло, открывают
широкий путь большему злу, стоящему жизни большинству тех, кто ему поддается.
Бедность духа жителей Средней Азии особенно видна по их одежде. Чрезвычайно
трудно непривычному глазу привыкнуть к простой бумажной материи или к яркой
шелковой, в которые одеваются решительно все — и мужчины и женщины, и старые и
молодые. Сукно и другие европейские произведения употребляются как величайшая
роскошь только богатыми и знатными в особенно торжественных случаях. В любое
время года только и видишь одну аладшу, и летние платья разнятся от зимних
только подкладкой — полотняной, или меховой, да большим или меньшим количеством
шерсти, которою они подбиты. Покрой платья почти у всех обитателей Азии самый
первобытный. Никому и в голову не приходит одеться со вкусом или сообразно с
целью. Все заботятся только о том, чтобы прикрыться или закутаться, и персияне
совершенно правы, когда они в насмешку над своими дикими соседями, говорят, что
все они ходят, завернувшись в одеяла. В костюм среднеазиата главное — чапан
(верхнее платье), похожий на наш халат. В Хиве он кроится ещё довольно сообразно
с фигурой человека, но в Бухаре в него могли бы завернуться уже двое, а в
Коканде он еще шире. Вид человека, верхом на лошади, одетого в этот широчайший,
пышнейший костюм, покрытый бесчисленным множеством складок, чрезвычайно комичен.
Пожалуй, еще понятно, зачем делается бесчисленное количество складок на груди:
туда можно по крайней мер спрятать всю кухонную посуду и разных съестных
припасов на дорогу дня на два, но всё-таки остается загадкой, для чего рукава
делаются вдвое длиннее рук и какая выгода от того, что, когда подбираются они
кверху, из рук образуется значительное утолщение. Под чапаном летом носится
иектей (тонкое исподнее платье), а под ним рубашка до пят, отличающаяся ото всех
остальных азиатских рубашек тем, что разрез у ней не спереди, а на левом плече и
что она есть совершеннейшее подобие мешка. Замечательно, что туркестанцы ночью
вынимают руки из рукавов рубашки и снять свернувшись в ней, как в мешке. Зимою
ко всему этому костюму прибавляется чекмень, широкая одежда из грубой материи, а
где климат холоднее, например в Хиве, там надевают еще безобразные толстые
ватные панталоны. В Хиве на голове носят телпек, широкую конусообразную, очень
тяжелую меховую шапку, а в Бухаре — чалму, которая очень ловко повязывается, с
бантом на левой стороне, и вообще очень эффектна. В Коканде еще лет 20 тому
назад носили лёгонькие шапочки в род наших священнических шапочек, а теперь ее
вытеснила бухарская чалма. Что касается до обуви, то лучшие мужские сапоги
делаются в Бухаре и Коканде. Кожа хороша и форма недурна, но каблук пресмешной:
очень высокий и тонкий, на конце не шире шляпки гвоздя. Знатные люди носят нечто
в роде сафьянных чулок, поверх их калоши, лучший сорт которых работается в
Самарканде. Относительно женских нарядов можно вообще сказать, что женщины,
кажется, еще более мужчин стараются избегать роскоши в костюме и всего, что
могло бы обратить на них внимание. Обычная их одежда летом состоит из рубашки;
спускающейся до пят, которая сзади делается из грубой холстины, а спереди из
толстого русского яркого цветного ситца. Панталоны он носят также сверху до
колен из холстины, а от колен до щиколотки (где они плотно обхватывают ногу) из
ситца, или из другой цветной материи. Зимой женщины надевают на рубашку одну или
две толстых ватных куртки, перехваченных у пояса платком. Выходя из дому, сверх
всего он накидывают широкую одежду в род мужской и совершенно закутываются в
нее, придерживая ее на груди руками. Ноги обуваются в безобразные сапоги. Право,
трудно представить себе что-нибудь печальней женской фигуры в этом наряде. Все
внимание её сосредоточено на том, чтоб не выпустить из рук полы верхнего платья,
ибо показать нижнюю одежду считается бесстыдством, а между тем, несмотря на
плотное покрывало из конского волоса, сквозь которое самый дерзкий глаз ничего
не в состоянии видеть, он постоянно стараются привлечь на себя взоры мимоидущих.
В деревнях женщины держатся свободнее: замужние редко закрывают лицо, а девушки
никогда. Верхняя одежда делается короче и только набрасывается на плечи; по
талии повязывается шаль, развевающиеся концы которой несколько скрашивают всю
фигуру. Но, к сожалению, этой деревенской свободой пользуются только в Хиве и в
Коканде, а в Бухаре законы ислама, за весьма редкими исключениями, тиранически
властвуют над женщиной.
В виде украшения, мужчины
носят на кошбаге ножи с серебряными и другими какими-нибудь разукрашенными
рукоятками, шитые золотом мешочки для чая, перца и соли, кольца, четки, иногда
печати, браслеты, золотые и серебряные футляры для амулетов; часы составляют
предметы особой роскоши и носятся только самыми знатными.
О драгоценностях, принадлежащих к женским нарядам, мы уже упоминали при описании
свадебных обрядов. Напрасно бы стал кто-нибудь искать роскоши и комфорта в доме,
пище, одежд жителя Средней Азии — все носит печать первобытных нравов и обычаев,
всякий старается оставаться верным им. Правительство заодно с муллами
поддерживает это положение вещей; с этою целью оно объявляет ввоз иностранных
товаров делом противозаконным и старается вытеснять их с рынков из боязни, чтобы
туркестанцы не поняли, что бедность их происходит не столько от природных
условий, сколько от социальных отношений. Но все старания правительства
оказываются бесполезными: могучий голос паровозов и пароходов доносится даже и
до этих диких стран и налагает свое veto на всякую отсталость. Суда, бороздящие
Индийский залив, Каспийское море, Аральское озеро, Волгу, а в последнее время и
Яксарт, значительно уже сблизили Среднюю Азию с западом. Паровозы, изумляющие
восточного жителя, доходят с юга до Лагора, с севера — до Нижнего Новгорода, и
значительно влияют на сношения, хотя им и далеко еще до стран по Оксусу и
Яксарту. Узбекскому купцу теперь стоит только добраться до Оренбурга или
Пешавара и перед ним откроется Петербург, или Бомбей, а с ними и вся Европа. Да,
хотя Средняя Азия так недоступна еще для путешествующих с ученою или
коммерческой целью, но в последние 25 лет в ней произошла всё-таки значительная
перемена. Стоит только просмотреть таможенные книги пограничных русских и
английских городов, чтоб увидеть изумительное увеличение цифры европейского
ввоза. От 1840 до 1830 г. через русскую границу ввезено товаров почти на миллион
фунтов стерлингов, а в I860 г. цифра эта дошла уже до двух миллионов. Из этой
цифры большая часть приходится на бумажные и шёлковые материи. Произведения
отвратительного, ненавистного запада требуются все более и более и хорошо
оплачиваются. Выбойки, платки, ситцы, как известно, лучшие провозвестники
цивилизации, немые апостолы западного образования: они несут с собой
благословение, хотя иногда за ними вслед идут европейское оружие и война. Пусть
иные слабоголовые крикуны считают состояние полудикости счастьем — практический
наблюдатель всегда будет убежден, что наша цивилизация лучшая и что насаждать ее
повсюду есть наша священная обязанность.
IX.
Из Хивы в Кунграт и
обратно
Молодой кунгратский мулла,
присоединившийся к нашему каравану для дальнейшего путешествия в Самарканд,
захотел воспользоваться нашим пребыванием в Хиве и посетить свою отчизну и
родственников. Он сообщил нам о своем намерении и весьма был обрадован, когда я
сказал, что я тоже не прочь ему сопутствовать, ибо желаю, во первых, сколотить
что-нибудь подаяниями, а во-вторых — уйти от тесноты и удушливого жара Хивы.
Мулла сулил мне золотые горы и расписывал все удивительными красками, боясь,
чтоб я не раздумал, но он напрасно беспокоился — я и без того не преминул бы
воспользоваться таким благоприятным случаем. Через два дня, мы были уже на дорог
в Енги-Юргендш, откуда должны были направиться к тому месту Оксуса, где ждало
полунагруженное судно, чтоб взять нас с собою за умеренную плату. Из Хивы в
Кунграт летом ездят большею частью водой и совершают путешествие это не более,
как в пять дней, благодаря скорости течения Оксуса. Так бывает в жаркие летние
месяцы, когда вода в рек достигает наибольшей высоты вследствие таяния снегов на
Гиндукуш и на вершинах Бедахшанских гор. Весною же и осенью путешествие
замедляется по причине низкого уровня воды, а зимою совсем невозможно, потому
что Оксус во многих местах покрывается льдом. На судно можно бы было сесть у
самых стен Хивы и каналом Хазрети-Пеливан достигнуть Оксуса, но мы сделали бы
большой крюк, потому что канал идет не на север, а на юг и соединяется с рекою
при Хесареспе. Можно проехать другим еще каналом — Газават, но он находится
довольно далеко от города и течет тоже скорей к востоку, чем к северу. Поэтому
охотнее ездят на Енги-Юргендш, один из лучших промышленных и торговых городов
ханства, а отсюда к могиле Ахун-Баба, лежащей на берегу Оксуса. Вокруг Ахун-Баба
разбросано несколько хавли (дворов), служащих складочным местом для обоих
помянутых городов. На всем пространств от Хивы до сюда — около четырех немецких
миль — население довольно густо и земля хорошо возделана. Дорога идет все время
полями, садами и лугами. Здесь растут во множестве самые лучшие тутовые деревья,
поэтому шелководство в блестящем состоянии. Вообще этот клочок земли может быть
назван одним из лучших во всем ханстве. На берегу стояла почти невыносимая
палящая жаpa. Когда я высказал на этот счет мои опасения, судовщики успокоили
меня, говоря, что этому злу можно будет помочь, поставив на палубе пешехане
(полотняную палатку), которая никому мешать не будет, так как управляющие баркой
помещаются только на концах её. Уставив такую пешехане, род болдахина,
долженствовавшего нас защищать днем от солнца, а ночью от страшных насекомых,
мы, по произнесении обычного при отплытии фатиха, отчалили от берега. Кром нас
двух на судне было еще четыре судовщика и два других путешественника. Сначала
плавание наше было весьма однообразно и скучно. Рулевые, по одному на каждом
конце, направляли барку постоянно на те места реки, где вода была мутнее и
желтее, объясняя это тем, что в этих местах течение сильнее. Рули состоят из
длинных шестов, расходящихся веслообразно на концах. Управляют ими обыкновенно
сидя, если только плавание не требует особенного внимания. Часа через два
рулевые сменялись; уставшие, или скорей спаленные солнцем, сменившись, приходили
к нам под крышку, к нашему великому неудовольствию растягивались во всю длину по
полу и тотчас же начинали храпеть, затягивая таким образом весьма не гармоничный
дуэт; они спали до новой смены. Что касается наших двух спутников, то, к
счастью, один только из них был очень разговорчив, и как меня радовало, что он
моему товарищу давал сведения то об одном, то о другом месте на нашем пути,
постоянно перебивая его если тот ошибался, и тем удовлетворял моему любопытству,
хотя и был несколько многоречив. Особенно интересного берега Оксуса собою ничего
не представляют, хотя о них можно больше сказать, чем сказал Бутенев,
проезжавший в 1858 году этою дорогою только вверх по рек из Кунграта в
Енги-Юргендш. На правом берегу против того места, где мы сели на нашу барку,
лежат обширные развалины Сахбаз-Вели (святого героя), Как говорят, некогда
сильной крепости, разрушенной калмыками. О народе этом предание гласит, что все
развалины в Хивинском ханстве — дело его рук, но это, разумеется, преувеличено,
хотя действительно от вторжения их при Чингисхане Харезм, находившийся в то
время в цветущем состоянии, сильно пострадал. Немного далее по течению реки
встречаются тоже обширные развалины с остатками каменных строений, называемый
Гаур-Кализи (крепость гауров). Под гаурами я сначала разумел древних гебров или
огнепоклонников, но здесь, к величайшему моему изумлению, услыхал, что этим
именем во всей Средней Азии называют армян, или лучше несториан, которые, в
доисламистские еще времена, до самого падения власти монголов, имели здесь
значительные колонии, начиная от Аральского озера и далеко по направлению к
Китаю. От первых развалин вниз по реке, по правому её берегу, тянется часа на
три пути довольно густой лес (тогай), называемый Хитайбеги. Хотя деревья и не
особенно высоки, но всё-таки солнце не может осушить находящихся в этом лесу
болот, питаемых Оксусом, и только немногие сухие места его обитаемы
каракалпаками, занимающимися разведением рогатого скота. На левом берегу
отдельно стоящие хавли тянутся почти непрерывной цепью, а по временам они у
самого берега скучиваются и образуют целые селения, так, напр., Ташкале, большую
узбекскую деревню, лежащую на высоком берегу, или меньшую Везир, вблизи которой
канал Киличбай впадает в реку, или лучше сказать вытекает из неё, потому что
другой его конец за Иилали теряется в песках. Весь наш день проходил обыкновенно
в варении чая, приготовлении пилава и рассказывании или слушании священных
сказок. По временам вся наша компания, за исключением рулевых, ложилась спать.
Эти минуты были для меня сладким отдохновением. Вглядываясь в жёлтые волны
древнего Оксуса, я переносился в воображении к европейским рекам с цветущими,
кипящими жизнью, берегами, с зеркальными волнами, несущими сотни пароходов...
какая неизмеримая разница! Оксус — верный представитель страны, которую он
пробегает: его течение дико и неукротимо, как дика и неукротима природа
среднеазиата; его мели и пески также труд, но обозначить, как трудно в
туркестанце указать дурные и хорошие стороны; наконец, он беспрестанно меняет
свое русло, как кочевник меняет места, где раскидывает свою палатку. На второй
день плавания, утром рано мы прошли мимо города Тёрлена, лежащего довольно
далеко от берега и имеющего как бы своею пристанью деревню по имени Ишимчиран.
Напротив города, на правом берегу реки находится крепостца Рехмиберди-бег, о
которой я упоминаю только потому, что от неё начинается цепь гор Овейс-Карайне,
тянущаяся с юго-востока к северу. С первого взгляда горы эти и высотою и
формацией походят на большой Балкан в пустыне между Хивой и Астрабадом; но
вблизи тотчас видно, что они больше Балкана и отличаются еще от него роскошною
растительностью, покрывающею многие из их вершин, что является весьма приятным
сюрпризом. На одной из вершин находится предполагаемая могила Овейс-Карайне
(ОвейсКарайне—имя одного верваго приверженца Магомета, из любви к нему
выбившего себе все зубы, потому что пророк в битв при Охуде лишился двух
передних зубов. После смерти Магомета Овейс хотел было основать орден, для
вступления в который требовалось прежде всего выбитые зубов, но это разумеется
не удалось. История его прибытия в Хиву и смерти в ней принадлежит, кажется, к
разряду вымыслов.) — знаменитое место поклонения в Хивинском ханстве. В
некотором расстоянии от могилы видно несколько зданий, выстроенных
Рехмиберди-бегом для удобства богомольцев. Несколько в стороне от этой горы
находится Мунадшат-даги (гора молитвы), на которую указывают, как на место
погребения одной святой женщины, по имени Амберене (мать Амбра). Святых женщин у
суннитов вообще мало, но всё-таки в Средней Азии насчитывают их несколько —
новое доказательство, что ислам не так безжалостен к прекрасному полу, как это
полагают у нас в Европе. Что же касается до госпожи Амберене, то об ней предание
говорит, что она была Зулейха красотою, Фатима добродетелью, и была ненавидима и
изгнана супругом, заклятым врагом ислама за то, что приняла эту веру. Из
царского своего жилища в Енги-Юргендш она бежала в эту дикую страну и наверно
умерла бы с голоду, если бы ежедневно ко входу в её пещеру не являлась оленья
самка, которую отшельница и доила. Кому не придет при этом на память истории
Женевьевы брабантской? Парижане тех времен были, как видно, не лучше нынешних
узбеков, и как часто вообще встречается такое тождество в произведениях фантазии
двух различных народов, далеко живущих один от другого! Проплыв четыре часа вниз
от Гёрлена, мы достигли Енги-япа, незначительного местечка, обнесённого земляным
валом, лежащего в полуторачасовом расстоянии от реки. Часа через два дальше
начинается новый округ Хитаи, именно от того места, где стоит Юмалак —
конусообразный холм на левом берегу реки. На правом берегу, между тем, горы
Овейс-Карайне все более и более приближаются к Оксусу. Пройдя мимо выдающейся их
вершины Ямпук, увенчанной развалинами замка, мы вступили в ущелье (по здешнему
Еиснак), образуемое с одной стороны Юмалаком, а с другой цепью гор Шейх-Дшели,
идущей от востока к западу. Проход этот много уже «Железных ворот» на Дунае и
часто бывает опасен для судов, потому что река, теснимая с обеих сторон скалами,
приобретает здесь страшную силу течения. Вода издает глухой шум, словно Оксус
возмущается на твердый скалы, который его, неукротимого буяна, хотят как будто
запереть. Впрочем самое узкое место прохода весьма коротко. Слева горы
оканчиваются обрывом, а на правом берегу спускаются ступенями; далее же за
Тавой, лежащей на левом берегу, вся страна переходит в совершенную равнину. С
исчезновением гор берега Оксуса теряют всю свою прелесть и после двухдневного
плавания даже надоедают своим однообразием, не дающим пищи ни глазам, ни
фантазии. Если утренние и вечерние часы и приносили с собою некоторую отраду, то
днем жара, а ночью мухи и гельзы (в сравнении с которыми нижнедунайские
голумбакцы — нежнейшие бабочки) просто были невыносимы. Только что солнце
успевало скрыться за горизонтом, как все поспешно прятались под нашу пешехане,
сделанную из грубой холстины. Мучительно было сидеть в этом воздухе, зараженном
моими спутниками, а выйти наружу не было никакой возможности. К вечеру мы
достигли, наконец, округа Мангита. Город того же имени стоит в двух часах от
реки, но нам его за маленьким леском не было видно. Здесь мы пробыли довольно
долго и, изготовив себе кушанье на вольном воздухе, а не на тесном очаге нашей
барки, поплыли далее. К великому сожалению моего приятеля, мы прибыли к Базуяну,
лежащему на расстоянии одного часа от берега, ночью. Ему хотелось вместе со мною
сделать визит к живущему в этом городе знаменитому ногайскому ишану, чтоб
испросить у него совета и благословения для задуманного им путешествия. Ногайцы,
убегающие сюда из России от русских чиновников, или от военной службы,
почитаются здесь как мученики за свободу и веру, но я между ними часто встречал
величайших негодяев, которые по всем вероятностям бежали от вполне заслуженного
наказания. Утром рано мы прошли уже мимо кипчака. От берега против города
выступает коса, которая тянется почти до половины реки. Когда вода низка, коса
местами поднимается из неё, и дети обыкновенно, по колено в воде, бегают по ней;
судовщики же очень боятся этого места и не решаются проходить им иначе, как
днем. Кипчак довольно значительное местечко, населенное узбеками кыпчакского
племени, с несколькими мечетями и училищами. Одно из училищ, находящееся на
правом берегу реки, основано Ходша-Ниазом и знаменито богатыми приношениями,
которые он сделал в него. Недалеко от этого уединенно стоящего здания, на горе,
у самого берега, виднеются развалины Чилпик, о которых придание гласит, что это
был некогда укрепленный замок, служивший местопребыванием некоей принцессы,
влюбившейся в невольника своего отца и бежавшей сюда со своим милым от
родительского мщения. Чтоб доставать себе воду, они прокопали гору до реки;
подземный этот ход существует и поныне. За Кипчаком, на правом берегу Оксуса
начинаются леса, которые, за немногими прерываниями, тянутся вдоль берега реки
далеко за Кунграт. Как глубоко они вдаются к востоку, с реки не видно, но, как
уверяли меня, самая большая ширина их достигает 8 — 10 часов пути. Прилегающая к
реке часть леса покрыта почти сплошь топями и болотами и только в некоторых
местах доступна. В менее густых его частях пасутся сотни стад рогатого скота
каракалпаков. В дичи недостатка нет, но из многочисленных диких зверей особенно
опасны пантеры, тигры и львы. Самое большое число мелей Оксуса приходится на
часть реки между Герленом и Кипчаком, так что мы беспрестанно наталкивались на
них. Левый берег от Кипчака образует тянущуюся далеко к северо-западу плоскую
возвышенность, называемую туземцами Исланкир (поле змей), которая на западе, на
границе с пустынею, кончается крутым обрывом, как Кафланкир, или как вся плоская
возвышенность Уст-Юрта. Население берегов Оксуса в этом мест состоит из
иомут-туркменов и чаудор-туркменов. Первые кочуют вблизи реки около Порсу и
клали, а последние на рубеж пустыни и по оазисам Усть-Юрта. Племена эти
находятся в постоянной вражде между собою, что, если не выгодно для них самих,
то выгодно очень для узбеков, потому что непосредственное соседство
объединённого сильного племени кочевников всегда опасно для оседлого народа.
ВечКромена третий день мы остановились перед городом Ходша-Или(Ходша-Или (народа
Ходша, или потомков пророка), живет здесь довольно много. Физиономии их — чисто
узбекские, подобно тому, как многие сеиды в Персии — иранского типа. Первые
пользуются большими правами, чем последние.), лежащим в двух часах от реки.
Большинство жителей считают себя потомками пророка и немало гордятся этим перед
остальными узбеками. Весь округ густонаселен. Левый берег реки далеко к Нёксу
представляет беспрерывную цепь лесов и обработанной земли. Здесь одно из самых
опасных мест для судоходства на Оксусе: река образует водопад, который во время
нашего путешествия быстро низвергался с высоты почти трех футов с ужасным шумом,
слышимым ещё за час пути до сюда. Туземцы его называют Казанкиткен, т. е.,
место, где погибли котлы, потому что здесь потерпело крушение судно, нагруженное
этим товаром. Обыкновенно суда, четверть часа не доходя до водопада, подводятся
вплоть к берегу и спускаются на канатах. Ниже этого места река своими разливами
образовала до вольно значительные озера, соединённые между собою природными
каналами. Весной воды в этих озерах бывает немного, но совершенно высыхают они
очень редко. Самые значительные из них: Еуйруклу-Кёль и Сари-Чёнгюль — первое на
несколько дней пути простирается к северо-востоку, а второе меньше, но глубже.
Мимо Нёкса мы прошли на четвертый день. Даже на левом берегу количество
обрабатываемой земли постепенно уменьшается. По обоим берегам тянутся леса; на
половин дороги между Нёксом и Кунгратом из реки выходит довольно широкий и
глубокий канал Ёгюскиткен, который идет по юго-западному направлению и впадает в
озеро Шоркатши. От большого разлития вод Оксуса судоходство в этом месте весьма
затруднительно, поэтому в последнее время старались плотинами отрезать помянутое
озеро от реки, но безуспешно. Вблизи мавзолея над могилою некоего святого, по
имени Афакшодша, лес кончается и начинается кунгратский округ. На сколько глаз
хватает, все покрыто садами, полями и хавлями. На пятый день вечером вдали
показался наконец и сам Кунграт, после того как мы прошли близ водоворота, мимо
развалин крепости, построенной во времена Мехемед-Эмина взбунтовавшимся
Теребегом. В этом, самом северном, город хивинского ханства мы пробыли очень
недолго, потому что мой юный товарищ, лишившийся год тому назад своих родителей,
скоро распрощался с живущим здесь родственником и начал даже торопить меня в
обратный путь. Наружным видом Кунграт хуже городов, южнее его лежащих и знаменит
только своими базарами, на которые соседние кочевники доставляют громадное
количество скота, масла, войлочных ковров, верблюжьего волоса и овечьей шерсти.
Кроме того, Кунграт ведет большую торговлю с остальными частями ханства сушеною
рыбою, доставляемою с берегов Аральского озера.
Как о достопримечательности,
я должен упомянуть здесь о том, что нашел в Кунграт двух русских, перешедших в
ислам и обзаведшихся хорошими домами и большими семьями. Они принадлежали к
армии Перовского и были взяты в плен; Мехемед-Эмин-хан дал им свободу с
условием, чтобы они перешли в ислам, и подарил одному из них невольницу
персиянку. Черноволосая дочь Ирана и белокурый сын севера живут очень согласно
и, не смотря на то, что последнему неоднократно представлялся случай
возвратиться на родину, он никак не мог расстаться с новым своим отечеством. В
заключение приведу краткие сведения, которые я собрал здесь о дальнейшем течении
Оксуоа — от Кунграта до Аральского озера. В двух часах от города Оксус
разделяется на два больших, почти одиноких, рукава. Правый сохраняет названье
Аму-Дерьи и скорее достигает озера, но вследствие частых разветвлений мелок и
труден, следовательно, для судоходства. Правый рукав носит название Тарлик
(узкий); он не широк, но достаточно глубок на всем своем протяжений: суда же
все-таки ходят по нем весьма редко, потому что он на пути к озеру делает большой
обход. Что касается до движения на самом нижнем течении Оксуса, то надо сказать,
что оно и в сравнение не может идти с тем, которое происходить на пространстве
от (Тшихардшуя до Кунграта—этой большой торговой дорог между Бухарой и Хивой.
Осенью рыболовство заставляет узбеков ездить к Аральскому озеру, так как во всех
трех ханствах производится значительная торговля сушеною рыбою. Без рыбы
обитатели пустыни почти не могут обходиться, так как они слишком скупы, чтоб, не
смотря на богатство своих стад, питаться мясом, а предпочитают заменять его
сушеною рыбою. Весною же озеро привлекает охотников за дикими гусями, которых
бывает на устьях Оксуса несметное количество. Преимущественно в это же время
года отправляются туда богомольцы на поклонение могил Токмак-Баба, находящейся
на остров того же имени близ устья реки. Святой этот в тоже время и покровитель
рыбаков. Прах его покоится под небольшим мавзолеем, во внутренней келье которого
сохраняется еще его одежда и кухонная посуда, носящие на себе следы глубокой
древности; между утварью особым почтением пользуется его котел. Рассказывают,
что даже русские, которым доступ к острову весьма лёгок, благодаря их пароходам,
заходят на него очень редко, а если и бывают иногда, то, движимые невольным
уважением, не прикасаются к хранящейся там святыне. Если мы теперь бросим общий
взгляд на все течение этой удивительной реки, от истока её, Сер-и-Куль (начало
озера), до; Аульского озера, то увидим:
1) что Оксус судоходен не на всем своем протяжении, как утверждает Burnes, но
только вниз от Керки, или, вернее, от Тшихардшуя, а сверху до этого места можно
на нем встретить только одни плоты, доставляющие строевой и дровяной лес,
которым богаты склоны бедахшанских гор, в те местности, где леса нет; на таких
плотах иногда попадается, но и то редко, какая-нибудь семья, переселяющаяся в
страны, нижележащие по Оксусу; на пространств между Хесареспом и Елтшигом,
служащим складочным местом для Бухары, начинают ходить уже большие суда, везущие
в Хиву, или оттуда, товары и продовольственные припасы; но оживленное движение
на рек происходит бесспорно на той её части, которая протекает хивинским
ханством; здесь по берегам её много городов, и она служит дешевейшим средством
для перевоза больших грузов и сообщения для бедных классов народонаселения.
2) что Оксус, как мне кажется (ибо, не имея достаточных сведений об этом
предмете, я утверждать не могу), с большим только трудом может сделаться: той
могучей, жизненной артерией Средней Азии, как предполагают политики, рассуждая о
будущности Туркестана. Что он не может играть такой важной роли, как Яксарт —
это ясно видно уже теперь из того, что русские со своей Арельской флотилией
должны были пробраться в Туркестан не по Оксусу, а по Яксарту, хотя последняя
река менее удобна для их планов; приводимый же обыкновенно аргумент, что
необитаемые берега Яксарта имеют большую важность для петербургского двора,
неверен и происходит только от недостаточных географических познаний наших о
Средней Азии: с тремя пароходами на Оксус русские могли бы не только держать под
шахом все хивинское ханство, не только завладеть Кунгратом, Кипчаком и
Хесареспом, но весьма легко могли бы перекинуть войско через Каракуль в Бухару,
т. е., в самое сердце Средней Азии, если бы неимоверные трудности этого водного
пути не сделали такого предприятия невозможным, в чем русские достаточно
убедилась уже при первой их попытке пробраться в Среднюю Азию. Оксус, не говоря
уже о водопад при Ходша-Или, о подводных камнях у Кипчака, о киснак (теснине) у
Ямпука, представляет величайшие затруднения своими многочисленными песчаными
отмелями, которые тянутся часто на несколько часов пути и, вследствие большой
массы песка, несомого течением, беспрестанно меняют свое место, так что их
обозначить нет возможности: самые опытные судовщики узнают фарватер только
приблизительно по цвету воды, а указать с точностью не могут.
3) что невозможно
искусственно уравнивать в Оксус высоту воды, которая в начале весны и поздно
осенью на две трети стоить ниже, чем летом; не говоря уже о том, что страшная
быстрота течения очень затруднила бы это предприятие, оно было бы вредно потому
еще, что многочисленные рукава и каналы реки не только необходимы для орошения
полей, но доставляют воду для питья в отдалённейшие страны. Если хивинский хан
объявляет войну какому-нибудь бунтующему подвластному ему племени, то он, прежде
всего, отрезывает каналы и водопроводы, и это оказывается самою чувствительною
мерою; следовательно, если бы правительство заперло свои шлюзы, чтоб увеличить
количество воды в Оксусе, то оно тем самым как бы объявило бы войну разом всей
стране. Кроме помянутых свойств Оксуса, надо еще заметить о необыкновенной
быстроте его течения, которая ясно видна из частых изменений им своего русла.
Изменения эти начинаются в нижней его части, после изгиба при Хесареспе, и их
гораздо больше, чем нам это известно. Если спросить туземцев, то они насчитают
их больше восьми, как на правом, так и на левом берегу. Если сюда и входят
некоторые старые каналы, то все-таки остается необъяснимой непомерная
неправильность Оксуса. С этой точки зрения может не подлежать сомнению, что в
древние времена совсем не существовало Аральского озера, как утверждает сэр
Генри Роулинсон, основываясь на одной в высшей степени драгоценной персидской
рукописи.
Из Кунграта в Хиву ездят
большею частью сухим путем, ибо, чтоб подняться вверх по реке, надо употребить
18 — 20 дней, и поэтому по ней перевозят только тяжести. Сухим путем есть три
дороги, именно:
1) через Еёне-Юргендш, так
называемая летняя дорога; она обходит все разливающиеся в это время года озера,
протоки и рукава Оксуса. Длина её 56 ферсах и потому она самая длинная.
2) Через Ходша-или; по ней
идут зимой, когда помянутые озера и пр. замерзают. Длина её 40 Ферсах.
3) По правому берегу Оксуса
через Сурахан—большие обходы и много песчаных степей.
Хотя нам и надо было
торопиться, но приходи лось избрать длиннейшую дорогу, через Еёне-Юргендш. По
счастью нам удалось присоединиться к небольшому обществу путешественников, из
которых некоторые ехали только до помянутого города, а другие до Хивы, Лошади у
всех были хорошие; даже те, которых дали нам в распоряжение «лиллах» (из
благодеяния), оказались молодыми, сильными животными. Благодаря этому
обстоятельству и тому ещё, что с нами ничего не было, кроме небольшого запаса
пищи, мы ехали весьма бодро, не смотря на жар, который даже и ранним утром был
чувствителен. От городских ворот дорога шла в северо-западном направлении,
сначала прекрасно обработанным кунгратским округом, потом пустырем до большого
озера стоячей воды, известного под именем Атеолу, считающегося первой станцией и
лежащего от Кунграта в 7 фарсах.
На узком мест через Атеолу перекинут мост; за ним дорога делится на рое: одна
идет вдоль дикаго горнаго хребта Казак-Ёрге по большой плоской возвышенности
Усть Юрта в Оренбург, а другая в Еёне Юргендш. Дорога наша пошла лесами и
песками; по сторонам виднелись иногда развалины, из которых замечательны:
Карагёмбец (черный купол), близ которого добывается соль, лучшая во всем
ханстве, и Барзакилмец (кто придет—не воротится), обитаемый поныне злыми духами
— опасное гнездо, где погибло уже много любопытных. После пятичасовой езды мы
достигли второй станции, Кабильбег-хавли. Это одиноко стоящий двор, хозяин
которого угостил нас весьма хорошо и не забыл снабдить на дорогу мясом и хлебом,
так как нам до ближайшей станции, Кизильчагала, надо было ехать еще часов
восемь. Было еще темно, когда мы выехали. Спутники мои стали весьма заботливо
осматривать оружие, и я подумал, что нам придется ехать мимо какого-нибудь
враждебного туркменского племени, но скоро успокоился, узнав, что дорога наша
будет идти весь день густым лесом, в котором много львов, пантер и кабанов,
иногда нападающих на путешественников. Что львы и пантеры при климатических
условиях Средней Азии не так опасны, как их собратья в Индии и Африке, понятно
всякому. Поэтому я не только не разделял опасений моих юных татарских спутников,
но даже желал быть свидетелем какого-нибудь интересного охотничьего приключения.
Но узбеков также сильна фантазия, как и у всех жителей Азии: об царственном
животном не было ни слуху; ни духу, а видели мы только несколько кабаньих
хвостов, в то время, как животные эти с треском прятались от нас в чащу. Но за
то нам попадалось просто невероятное количество цесарок и фазанов — и теми и
другими мы достаточно запаслись для предстоящей вечерней стоянки. Надо заметить,
что птицы эти здесь гораздо вкуснее, чем в Мазендране, и что узбеки умеют их
лучше готовить, чем персы. По выезд из леса, вскоре показался вдали Кизилчагала,
укрепленное место, обитаемое узбеками. Мы прибыли туда довольно еще рано, а на
утро пустились далее в путь страною, обитаемою иомутами. КёнеЮргендш считается
четвертою станцией, хотя находится всего в трех часах от предыдущей. Эта древняя
метрополия знаменитого некогда в Средней Азии Харесма теперь самый бедный из
всех городов, разделивших с ним одну участь, и, как не возвеличивают история и
предания его прошлое великолепие, при взгляд на его развалины видно, что он был
средоточием только татарской цивилизации. Нынешний город мал, грязен и
незначителен, но вероятно был много больше, если судить по развалинам вокруг его
стен. Они принадлежат к исламистскому веку культурной эпохи Шахи-Харезмиан.
Главную достопримечательность составляет помянутая уже в моем путешествии мечеть
Теребег-ханима (не хана), которая больше и великолепнее Хазрети-Пеливана,
считающейся лучшим зданием в Хиве, и не уступает своими каши, в которых
преобладает желтый цвет, ни одному подобному зданию Туркестана. Потом заметим
еще мавзолей Шейх-Шереф с высоким лазоревым куполом, могилу Пирияра, отца
знаменитого Пеливана и Шейх-Недшмед-дин-Еюбера. Последнее здание было близко к
разрушению и восстановлено только в недавнее время щедростью Мехемед-Эмин-хана.
В окрестностях города, говорят, находится много отдельно стоящих каменных башен
и стен, как например: Пульдшайду (погибшие деньги), в трех часах от города.
Здесь, когда буря взрывает песок, показывались тогда из земли монеты и золотые
или серебряные сосуды; когда песок просеивают, то часто труд этот с избытком
награждается. Кром этого, известен еще Айзанем, или двойной киоск Айзанема и
Шазанема, знаменитой влюбленной пары, история которой часто воспевается здешними
трубадурами. Впрочем название это, должно быть, прилагается ко всяким
развалинам, стоящим одинокими парами, ибо Шазанемы есть и в других частях Хивы,
и в Бухар и близ Герата, и везде рассказывается про них почти одна и та же
история с небольшими вариациями. От Кёне-Юргендша дорога делится на две ветви
почти одинаковой длины. Первая идет менее обитаемой страной, на Порсу, Иилали;
ездят по ней большим обществом, ибо часть её — по крайней мер до Ташхауса — не
совсем безопасна от кочующих вблизи чаудор-туркменов и иомутов. Вторая ветвь
идет все ближе к Оксусу мимо почти непрерывной цепи одиноко стоящих хавли,
деревень и базаров. Последняя длиннее первой и труднее, потому что на ней
встречается много каналов и водопроводов, но, тем не менее, летом
предпочтительно избирают ее, так как на первой дорог караван расходится лишь у
Ташхауса, а на последней он доходит только до Кипчака и здесь уже всякий
получает возможность идти, куда ему нужно.
X.
Мой татарин.
Можно ли себе представить
больший контраст — видеть азиата, да еще среднеазиата, только два года тому
назад закутанного в широчайший свой халат, питавшегося первобытной простейшей
пищей кочевников, одетым в европейский и к тому же узкий венгерский костюм и
почти уже совсем привыкшим к пище и нравам запада; татарина, готовившегося быть
муллой, сидевшего в уединенной келье хивинской медресе Мехемед-Эмина, и занятого
в ней по целым часам молитвою и изучением ислама, видеть теперь роющимся в
библиотек одной из европейских академий, отыскивающим фолианты по философии, по
всеобщей и церковной истории, греческих, латинских и других авторов; азиата, не
иначе, как с отвращением слышавшего имя Европы, считавшего свои восточные дикие
учреждения и воззрения единственно правильными и разумными, видеть теперь
читающим передовые статьи европейских газет, рассуждающим о европейской*
политике и делающим при этом иногда самая смелые сравнения обоих миров? А между
тем эти крайности сошлись в особе моего муллы — того хаджи, который на пути в
Мекку встретился со мною в Хиве, привязался ко мне и, вместо святейшего города,
живет теперь со мною в столице Венгрии. Многие любопытствовали узнать какими
средствами я мог подвинуть моего татарина на такой подвиг; особенно все
добивались узнать, какое впечатление произвело на него мое внезапное превращение
из благочестивого дервиша в европейского путешественника. Вопрошавшие думали
совершенно ошибочно, что я внезапно, как бабочка, сбросил с себя свою личинку.
О, нет и превращение было очень постепенное, и фазы его особенно тем интересны,
что он отлично обрисовывают характер восточного и западного жителя.
Действительно, вся эта история стоит того, чтоб ее рассказать поподробнее, Мы
встретились, как я уже говорил, в Хиве. Татарин мой, молодой мулла, одушевленный
страстью к странствованию, искал себе попутчика в Мекку. Считая меня за турка,
за уроженца святых мест, он лучшего товарища себе не желал и с первого же раза
искренне привязался ко мне. Вначале он смотрел на меня просто, как на очень
учёного фанатика муллу, почему и относился ко мне с великим почтением и старался
ловить каждое слово с напряженным вниманием. Таковы были между нами отношения во
все время нашего путешествия через Бухару, Самарканд, Еарши, до берега Оксуса.
Здесь я стал к нему доверчивее, приподнял немного покров святости, под который
прятался доселе; мы сделались приятелями и наши скудные средства сложили в один
мешок. Так как это была высоко честная, прямодушная натура, то его нелицемерная,
верная дружба стала для меня действительным утешением и опорою на моем одиноком
опасном пути. Но мой татарин конечно только с трудом, и то медленно, привыкал к
более короткому обращению со мной. Ему, по-видимому, очень нравилась роль
прислужника: во время нашего путешествия он поставил себе задачею исполнять все
более трудные работы — собирать дрова, добывать муку, и т. д., а мне предоставил
более легкое собирание денежных подаяний. Вечером он заботился о приготовлении
пищи и, поставив рис на тряпку или доску, служившую нам столом, не позволял себе
приняться за еду прежде, чем я сделаю почин двумя, тремя пригоршнями. Почтение
ли или особое доверие внушали ему такое уважение ко мне, я не знаю, но он
постоянно противился стать со мною на равную ногу. Я не желал портить его
расположения духа и не стеснял его произвола. По эту сторону Оксуса, по мере
удаления от Бухары, благочестие мое убывало все более и более. Молитвы,
омовения, благочестивые размышления становились реже и реже. Татарин мой,
конечно, заметил это, но не обеспокоился, а стал сообразоваться с моим
поведением: реже предлагал мне духовные вопросы и стал внимательнее вслушиваться
в мои рассказы о далеких, удивительных френгских странах. Разговоры эти
обыкновенно происходили во время ночных переходов, когда мы дружески ехали с ним
рядом одни, отделившись на несколько шагов от каравана. Я был чрезвычайно рад,
что мог вспоминать среди окружавшего меня варварства о дорогом мне западе и
говорить о нем; товарищ же мой был вне себя от удивленья, что есть города лучше
Бухары, что есть страны, где можно путешествовать, не боясь умереть от жажды или
попасть в руки разбойников. Но более всего поразили его мои уверения, что
френги, которых он привык считать за каких-то людоедов, далеко не так жестоки и
безжалостны, как об них думают на востоке. В других обстоятельствах он, пожалуй,
этому и не поверил бы, но тут не мог, ибо ему говорил это ефенди, учитель его и
господин. Жажда познания и привязанность молодого муллы приобрели ему вполне мое
расположение. Он все более и более стал отдаляться от своих соотечественников и
все ближе сходился со мною. Видя, что из молодого этого человека действительно
может выйти что-нибудь, я тотчас же решился его более не оставлять и, если можно
взять с собой в Европу. Решение это состоялось, когда еще мы были довольно
далеко за Гератом. В этом же город он блистательным образом доказал мне свою
привязанность и дружбу. Как известно уже читавшим мое путешествие, там мне
пришлось пострадать больше, чем где-нибудь. Полнейшее отсутствие всяких средств
заставляло меня испытывать нередко все мучения голода, и когда в то позднее
время года ночной холод прогонял от меня сон, мой татарин делился тогда со мной
своими жалкими лохмотьями, чтоб укрыть меня потеплее. Мы много перестрадали во
время шестинедельного нашего пребывания в Герате. Уверения мои, что мы в Персии
найдем себе помощь, укрепляли дух моего спутника. Ему казалось забавным, что мы
рассчитывали найти облегчения своим страданиям в еретической стран шиитов; но,
питая полное доверие ко мне, он воздерживался от всяких замечаний и, точно
также, как и я, стал с надеждою смотреть на столицу Хорозана. Наконец мы прибыли
в Мешхед. Дружеское обращение полковника Долмэджа со мной и с моим спутником
было загадкой для юноши. Он знал, что Долмэдж френги — чего, следовательно, он
не передумал, видя меня, благочестивого магометанина, своего духовного
наставника, по целым часам беседующим на незнакомом язык с этим неверным, и
едящим из одного с ним блюда! Окружающие полковника и многие другие в город
сообщали моему мулле свои подозрения, что я переодетый френги, но он с
негодованием выслушивал их и ни разу не обратился ко мне с вопросом об этом —
вера его оставалась непоколебимою. На дальнейшем пути к Тегерану мой мулла,
преследуемый за свой татарский костюм изуверными шиитами, находил во мне свою
защиту и .все более вследствие того привязывался ко мне. Конечно, с моей стороны
было немалой смелостью целый месяц ехать вдвоем с этим человеком,
останавливаться на ночь в пустынных местах, где, приди ему какая-нибудь дурная
мысль в голову, он легко мог бы убить меня спящего, взять мою лошадь, оружие,
деньги и бежать на север к туркменам. Но я был далек от подобных мыслей. С
полным доверием я ему отдавал всегда мое ружье, саблю, лошадь, и спокойно спал,
пока он стоял на часах, потому что с самого начала моего знакомства с ним я
видел, что у него доброе сердце, а на этот счет я еще ни разу не ошибался. В
Шахруд он во второй раз увидел меня в объятиях неверного. Мой мулла был поражен
этим, но сказал мне: «Господин, ты действительно хорошо поступаешь, сходясь так
с френгами, потому что персияне эти, клянусь Богом, хотя и веруют в Коран и в
пророка, но хуже во сто раз всяких неверных»! Увидя еще другого англичанина, он
выразил мне свое удивление, что френги так приятны по наружности и в обращении,
но сходился с ними очень трудно и часами пристально вглядывался в них; поэтому
видно было, что хотя он несколько и освободился от вкоренившихся в нем
предубеждений, но все-таки некоторая робкая сдержанность еще оставалась.
В последние дни нашего
путешествия, приближаясь к столице Персии, я от радости начал сначала
насвистывать, а потом и напевать арии из разных опер. Свист на востоке
неупотребителен и считается весьма неприличным; не смотря на это мотивы из
«Трубадура», «Ернани» и с «Лучии» очень понравились моему мулле и он очень
наивно спросил меня «не с этим ли аккомпанементом читают в Мекке Коран»? Получив
отрицательный ответ, он очень удивился. На почте в Ахуане спутник мой в первый
раз услышал мое настоящее имя. Оно шелохнуло нежнейшие струны его сердца. После
нелегкой, вероятно, борьбы с собою он решился, наконец обратиться ко мне с
вопросом; я возражал, что отвечу ему в Тегеране. Мулла мой на время успокоился.
По прибытии в Тегеран я отправился опять к своим старым друзьям в турецкое
посольство. Молодые эфенди, представители султана, как настоящие европейские
дипломаты, своими костюмами и манерами гораздо более меня походили на
европейцев. Это немного успокоило подозрительность моего муллы, а мои
разъяснения новейшей цивилизации его суннитских братии постепенно показали ему
ту бездну, которая отделяет Бухару от Стамбула. Слыша, о постоянном стремлении
османли подражать Европе, в чем только можно он сам не мог не последовать этому
примеру; к тому же в тех немногих френгах, которых он имел случай встречать, он
видел одно только хорошее и доброе — вследствие всего этого ненависть и
предубеждения его слабели и исчезали с каждым днем более и более. В Тегеран он
познакомился с моим соотечественником Сцанто, часто меня посещавшим, и, мала по
малу кротко сошелся ним. Сцанто с немалой радостью объявил ему, что во всей
Персии есть только два мадьяра: он, Сцанто, да я, и что мадьяры сродни туркам
(это собственная догадка этого портного филолога). Последнее поразило татарина,
но особенно не встревожило, ибо долгая наша жизнь вместе и дружба уже его
примирили со многим; да потом, видя во мне больше любви к нему, чем в турках, он
мало заботился о небольшом национальном различии между нами. Он охотно бродил по
Тегерану, знакомясь с языком и нравами персиян, и очень обрадовался, когда мы,
пробыв несколько недель в столице Персии, снова оседлали коней, чтоб ехать
далее, в Константинополь. До сих пор у нас решено было, что мой мулла доедет со
мной до Константинополя, а оттуда отправится через Александрию в Мекку. Но скоро
я заметил, что план этот ему разонравился и что в голове; у него родился другой.
Частые соприкосновения с. турецким посольствам, устроенным на европейский манер,
и другими посольствами в Тегеране, показали моему татарину некоторые стороны
европейской жизни в приятном свете, и возбудили в нем желание со мною вместе
посетить эту удивительную Европу. Каким образом его первоначальное стремление
потереть лбом о граб святого пророка все, более и более отступало на задний план
понять не трудно, Его .здравый смысл прозрел весь, религиозный сумбур и так как
он от природы имел особую склонность к приключениям, то скоро, решился вместо
светлой Мекки посетить так страшивший его прежде и ненавистнейший ему
Френгистан.
Я же; как будто ничего этого
не замечая; по прибытии в Константинополь, вручил моему татарину денег на дорогу
и стал с ним прощаться. Бедняжка взглянул на меня со слезами на глазах и,
несмотря на гордые минареты, на толпу правоверных вокруг нас, дрожащим
голосом проговорил: «Эфенди, не оставляй меня здесь одного. Ты привёз меня из
Туркестана в эту чуждую страну, где я никого не знаю, кроме тебя; я охотно за
тобой последуй, куда бы ты ни пошел» — «Как! ты хочешь ехать со мной в
Френгистан»? спросил я. «Но оттуда далеко до Мекки, и потом там нет мечетей, нет
омовений и нет мусульманской кухни, как те станешь ты там жить»? Он смутился,
но, помолчав несколько минут, сказал: «Ах! Френги так добры и дружелюбны — я
охотно бы посмотрел их страну, а потом опять воротился бы в Стамбул»! Для меня
этого было довольно. Я понял моего татарина — и через три дня он плыл уже к
столице Венгрии по Дунаю на пароходе, окруженный шумной толпой европейцев. На
пароход я его видал часто погруженным в раздумье; сначала он не решался
прикасаться к европейской пище, робко озирался вокруг, но мало по малу привыкал
ко всему, а несколько дней спустя уже разгуливал в своем бухарском костюм по
улицам Пешта. В первое время его так все поражало, что он от изумления почти
лишился языка. Все его дивило, начиная от кубически отесанных камней мостовой до
высоких зданий и башен. Можно себе легко представить, какие забавные вопросы,
какие странные и часто высококомические замечания делал этот сын пустыни,
попавший в первый раз в европейский город. Скорая ходьба и движение людей и
экипажей по улицам очень его удивляли, но особенно поразили его женщины: он
никак не мог понять, каким образом френги, такие умные люди, пускают своих жен
бродить по улицам, одних, без надзора и в таких неуклюжих нарядах. Днем он
иногда по целым часам прислушивался к телеграфной проволоке, желая уловить звуки
передаваемой по ней телеграммы, а по вечерам впивался глазами в газовые рожки,
любопытствуя узнать, ужели и железо горит. В гостинице все для него было
чрезмерной роскошью и великолепию, а так как о людях он судил по платью, то все
ему казались великими господами и он часто говаривал: «О, вот счастливая-то
страна — совсем не видно бедных!» К любопытным взглядам, всюду его
преследовавшим, он привык не очень скоро. Прежний страх пред френгами исчез
совершенно: мулла дружелюбно посматривал на всех и часто с первым встречным
вступал в разговор, но, что всего изумительнее, он забывал, что его здесь никто
не понимает и продолжал весело беседовать, не обращая внимания на изумленную
фигуру того, к кому обращался. Я бы охотно взял его с собою в Лондон, но мне
казалось, ,что лучше будет оставить его на первое время в Венгрии. Один из моих
друзей любезно приютил его у себя в деревне, а когда я через год возвратился из
Англии, то, к великому изумлению увидел моего муллу уже в венгерском костюм и в
модной прическе, вместо чалмы; но в нем еще проглядывала татарская важность и
неподвижность в осанке, что выходило очень забавно при новом его костюме.
Венгерскому языку он выучился скоро, и моего муллу все полюбили, все радушно
принимали его, но я никак не мог не расхохотаться, когда в первый раз увидал его
нарядного, в перчатках, любезно беседующим с дамою. Два года тому назад — мулла
в хивинской Медресе, а теперь чуть не дэнди. Чего только не сделаешь из жителя
востока! Так как он выучился уже читать и писать по-венгерски, то друзья мои
были так благосклонны, что доставили ему место при библиотек венгерской
академии, где он пребывает и доныне. Беседуя с ним теперь о различии восточной
жизни от западной, я вижу, что прошлое ему кажется сном, который он иногда с
удовольствием вспоминает, но на который никоим образом не желал бы променять
настоящего своего положения. О родине грустит он редко. Вот главные причины, на
основании которых он особенно полюбил нашу цивилизацию: во первых, ему нравится
полнейшая безопасность в нашем обществ и отсутствие тирании и произвола
правительства В Средней Азии на дорогах даже голый нищий не безопасен от
разбойников, а в городах грозит постоянная опасность от варварских распоряжений
властей.
Частые страшный казни,
опустошительные междоусобные войны поражают его теперь, когда он видит, что
тысячи людей ежедневно соприкасаются без брани, драки и пролития крови. Во
вторых, его пленяет европейский комфорт и кажется особенно благотворным. Он
находит, что у нас дом простого гражданина лучше обставлен, чем ханский дворец.
Чистота в одежде, в кушанье, хорошие отношения между людьми — все это магниты;
его притягивающие и заставляющие все более и более забывать его дикую родину. В
третьих, ему особенно нравится, что у нас различия религиозные или национальный
едва чувствительны, между тем как на востоке они как стены разделяют общество.
На его родин одна мысль посетить страну Френгов повлекла бы за собою верную
смерть, а здесь не только он не возбудил ни в кой неприязни, но, напротив, все
любовно и радушно его принимают. Что касается религиозных чувствований, то уже
все передуманное им самим несколько уяснило ему этот вопрос. Мой мулла заметил,
что, по мере удаления от востока, фанатизм все более и более ослабевает, а
гуманность и порядок с тем вместе все более и более увеличиваются. Из этого он
мог заключить, что ислам; по крайней мере тот ислам, который он изучал и
исповедовал, есть явный враг цивилизаций и того научного о6paзa жизни, который
ой нашел в Европе. Ненависти и порицаний относительно учения аравийского пророка
он не высказывал; но по его рассуждениям видно, что в нем происходить большой
переворот. Не приписывая громадной разницы нашей жизни от восточной одному
только христианству, он, однако так далеко ушел в своих заключениях, что видит
всю невозможность соединить нашу жизнь, наше образование, с учением Магомета.
Окончательного предпочтения той или другой сторон он мне еще не высказал, и
немало времени пройдет еще, пока он решится облечь в слова свою мысль. Его
намеки и отрывистые замечания доказывают, впрочем, что вопросы .эти его занимают
и что в нем происходить еще сильная внутренняя борьба. Так бывает с каждым
мусульманином, когда он ознакомиться с западной цивилизацией — будь он татарин,
араб, персиянин или турок. Полный переход редко случается видеть. Великий
вопрос, что лучше: западная цивилизация или веточная, учение Христа или учение
Магомета — для народов Азии еще останется нерешенным надолго, можно сказать, до
тех пор, пока у нас солнце будет греть умерено, а у них нестерпимо жечь, пока
восток будет совершенно разобщен от запада. Учение Христа надо изменить, чтоб
сделать его доступным для жителей востока, чтоб пм заменить Коран. Если бы
исключить догмат о воплощении, о тройственности, и т. д., то пожалуй, ложно бы
было еще рассчитывать на небольшой успех. Я говорю — небольшой, потому что хотя
христианство и было насаждено на востоке, но время доказало, что оно прозябать
успешно может только на западе. Кто не знает, как на восток высоко ценятся
корановеды, эти произведения восточного духа, и как крепко держится за них
восточный житель. Вытеснение их потребует создания других, таковых же
произведений. Да, я готовь думать, что даже учение Христа на восточной почве
превратилось бы в нечто, подобное Корану, или ведам, что оно должно
претвориться, чтоб войти в плоть и кровь сынов востока. Несториане, армяне и
другие последователи восточной церкви — тоже христиане; как сильно они разнятся
от своих единоверцев в Европе, так же мало они расходятся в образе мыслей,
воззрениях и чувствованиях со своими иноверными соплеменниками на востоке.
XI
Столичная жизнь в Бухаре.
«Хаджи, ты видел много стран;
скажи пожалуйста, есть ли где на свете ещё город, где бы было так приятно жить,
как в Бухаре?» Вот вопрос, с которым мне так часто наскучали в татарской столице
даже такие люди, которые не раз видали Индию, Персию и Турцию. Что я должен был
отвечать на это — легко можно себе представить. Подобные щекотливые вопросы
ставят путешественника в очень затруднительное положение точно также в Париже,
Лондоне и Петербурге, как и в Константинополе, Тегеране и Бухаре. Тщеславие
существует везде. Всякий город, всякий народ, как и всякая отдельная личность,
если и согласится в чем-нибудь уступить другим, то всегда найдет в себе чем
покичиться над другими. При сравнении, мнимые преимущества их бывают часто до
крайности мелочны и смешны, но сравнение может делать только человек, сознающий
себя гражданином всего света; горожанин же и в средине Азии тот же, как и у нас
в Европе.
Бухара, это средоточие
татарской цивилизации, бесспорно имеет в себе многое, напоминающее столицу,
особенно для чужеземца, который должен целые недели пробираться голыми
пустынями, чтоб наконец увидать ее. О роскоши в жилищах, одежде и образ жизни в
Бухаре, если сравнить их с западно-азиатскими, почти и говорить нечего; но
все-таки есть в ней нечто своеобразное и потому не удивительно, что привычка и
самолюбие заставляют бухарца так гордиться своей столицею. Дома Бухары,
построенные из дерева и глины, со своими не штукатуренными, кривыми стенами,
смотрят еще мрачнее, чем жилища других магометанских городов. Войдя через
низенькую дверь на любой двор, подумаешь, что попал в крепость: кругом
подымаются высокие стены, защищающие не от воров, а от любовных взглядов
соседей. В Бухаре, этом притоне гнуснейших пороков один взгляд издалека уже
считается обесчещивающим! — Число комнат весьма разнообразно, смотря по
состоянию домохозяина. Большую часть дома занимают: гарем, называемый здесь
ендерун (внутренность), малая гостиная и приемная зала; зала всегда обширней
остальных покоев и лучше убирается, но в ней, как и в других, делаются палати,
служащий кладовыми. Пол выкладывается кирпичом, или камнями, а вдоль стен
расстилаются ковры. В углу приемной помещается четырёхугольный, внутри
выдолбленный, служащий для более удобного совершения священных омовений —
обычай, не встречающийся нигде в других магометанских землях. На стенах особых
украшений никаких нет, только в обращении к Мекке бывают расписаны вазами с
цветами и разными арабесками. Окна состоят из простых отверстий с двустворчатыми
ставнями; стекол нет — иные только дают себе труд заклеивать отверстия эти
бумагой, пропитанной жиром. Мебели, вообще редко употребляемая на всем востоке,
здесь едва известна по имени; это нисколько не удивительно, так как мне не редко
слышать, как житель востока, знающие Европу, говорят: «Ну не глупый ли обычай у
френгов наполнять свои прекрасные, просторные комнаты такою кучей столов,
диванов, стульев и т. д. вещей, что не остается места, где бы можно было удобно
присесть (т. е. на земле)?»
Костюмы соответствуют
остальной обстановке. Сукно встречается весьма редко — им дарит хан в виде
особенной милости только высших чиновников. Все народонаселение, от хана до
дервиша, зимою |и летом носит одну аладшу (бумажную материю). Форма верхней
бухарской одежды всегда одна и та же - длинный до пят халат; но в покрое его в
воротнике, рукавах н отделке по временам делаются небольшие изменения, что
соответствует нашей моде, предписаниям которой в Бухаре точно также, строго
следуют, как и в Париже. Бухарский дэнди, например, всегда старается расположить
складки чалмы по последней моде, ибо это служит признаком хорошего тона.
Особенное внимание обращается на повязку шали, которою в виде пояса
обхватывается нижнее платье, и на висящий у пояса кошбаг; последний состоит из
куска кожи, разрезанной на полоски, к которым привязывается один или два ножа в
ножнах, мисвай (зубная щетка), мешочек для чая; кожаная сумка для медных денег и
тому подобное. Это составляет несессер среднеазиата; по качеству и цен висящих
на кошбаг вещей судят о состоянии, характер и воспитании человека. Кто хочет
видеть высшее общество Бухары, тот должен в пятницу от 10 часов утра до 12
находиться на улице, ведущей от Дери-Ригистана к Меедшиди-Келан (большой
мечети). В это время эмир, в сопровождении своих вельмож, в полном парад
отправляется на пятничную молитву. Все одеты в лучшее платье, лошади, заменяющие
здесь всякого рода экипажи, блистательно разукрашены; широкие, топорщащиеся,
яркие атрес, т. е. шелковый одежды, представляют бросающийся в глаза контраст с
высокими сапогами со шпорами. Особенно же смешны пешеходы, которые, стараясь
щеголять своею походкой, идут волоча ноги и переваливаясь со стороны на сторону.
Эта развалистая походка, столь грациозная по мнению поэтов востока и
сравниваемая ими с покачиваниями кипариса, колеблемого дуновением зефира,
чрезвычайно тщательно изучается, как в Персии, так и здесь. На европейский
взгляд модники эти похожи на жирных гусей, шлепая идущих с поля домой; но
смеяться я не смел, ибо наша натянутая, скорая походка восточным жителям точно
также не нравится, и с моей стороны было бы весьма неучтивым упоминать здесь о
сравнении, которое они делают относительно нас. Не менее поражает то, что
мужчины в Бухаре ходят в широких одеждах светлого цвета, а женщины в узких и
темных. В Бухаре, где исламистско-восточная цивилизация сохранила всего вернее
свою печать, хуже всего пришлось женщинам, этим мученицам восточного
законодательства. В Турции соприкосновение с христианскими элементами изменило
уже многое: яшмак (покрывало) сделался просто частью туалета и потерял прежнее
значение оков. В Персии женщины еще порядочно закутываются, но носят уже яркие
шелковые чакшуры (панталоны и чулки вместе), арубенд (полотняное покрывало с
сектою для глаз) украшается золотыми пряжками. В Бухаре не видно еще никаких
следов послабления закона, и для женщин не существует ничего, похожего на наряды
или украшения. Выходя на улицу, они накидывают на голову тёмно-синий, длинный
халат, рукава которого прикрепляются на спин так что сзади бухарские красавицы
скорее похожи на ходячие вешалки для платья. Лице покрывается сектою из конских
волос, спускающеюся до половины груди и которую у нас в Европ нашли бы,
вероятно, слишком грубою даже для сит. Прикосновение такой ткани к щекам и носу
не должно быть особенно приятно. Женская обувь состоит из уродливых, тяжелых
сапог, надеваемых поверх кучи тряпок, которыми бедные дамские ножки бывают
обернуты. Костюм такой мало привлекателен, но и в нем женщины не смеют слишком
часто показываться на улице. Дамы, пользующиеся известным состоянием и доброй
славой, не смеют никогда посещать базара и других публичных места; все закупки
делаются мужчинами, а если уж крайняя необходимость вызовет их из дому, то
приличие требует, чтоб они притворялись старухами и бедными, Заставлять молодую
восемнадцати или двадцатилетнюю даму, полную жизни, прогуливаться по улице
иначе, как закутавшись и опершись на палку, и единственно для того только, чтоб
своим старым видом убегать от нескромных взоров — не есть ли это верх тиранства
и лицемерия! Такие извращенные понятия о нравственности существуют более или
менее на всем востоке, но нигде, кроме Бухары, вы не до каких встретите таких
возмутительных образчиков того, крайностей во всем доходит восточный житель. В
Константинополе и других городах Турции женщины имеют еще случай пользоваться до
некоторой степени обществом мужчин на известного рода гуляньях (сеир-иери), хотя
он и присутствуют на них издали и порядком прикрытия. В Тегеране, Ишпагани и
Шуразе дамы имеют обыкновение, нарядившись, ездить верхом на красивых лошадях в
окрестности города на богомолье. Могилы святых служат местами rendezvous, на
которых часто молитвы заменяются любовными объяснениями. Но в Бухаре незаметно и
тени чего-нибудь подобного. Мне ни разу не пришлось увидеть на улице мужчину
вместе с женщиною; своих собственных жен, и тех избегают (что мажет быть иным и
понравилось бы в Европе), потому что чем меньше обращается внимания на женщину в
публичном месте, тем большее этим выказывается к ней уважения; известно, что где
проезжают жены эмира, оттуда мужчины должны как можно скорее удаляться. Какая
общественная жизнь вытекает из таких отношений, понятно всякому. Общество не
может представлять собою веселой картины там, где существует такая разобщенность
полов, где все основано на принуждении и лицемерии, где все находится под гнетом
противоестественных законов, выдававших за божеские повеления и потому строго
соблюдаемых. Чтоб изучить публичную жизнь Бухары, войдем прежде всего в чайные
лавки, служащие местом сбора для всех состояний. Бухарец, или вообще
среднеазиат, если он ничем особенно не занять, не может пройти мимо двух, трех
чайных лавок, чтобы не зайти в одну из них. Как было уже мною замечено, у
всякого есть свой мешочек с чаем; войдя в лавку, он отсыпает известную частичку
чая хозяину, продающему поэтому главным образом теплую воду, а не чай. Днем,
особенно в публичных местах, обыкновенно пьют чай жидкий, без сахару и съедают
при этом одну или две гульче — маленькие лепешки из муки и бараньего сала, в
приготовлении которых отличается Бухара. Так как дуть на чай, как бы ни был он
горяч, считается в высшей степени неприличным и даже грехом, то среднеазиат
старается до тех пор плескать свой любимый напиток в чашке, пока он не простынет
настолько, чтоб его можно было пить. Чтобы казаться порядочным человеком, надо
уметь, подперши левою рукою локоть правой, с особенной грацией раскачивать чашку
и, разумеется, не пролить ни одной капли. В таком чайном обществе бухарец может
проболтать несколько часов, так как разговором он не утомляется, а бесконечное
чаепитие ему никогда не опротивит и всегда вперед известно, сколько времени ему
нужно, чтобы пропотеть известный сорт чая. Всякий раз, как выпивается чайник,
всему обществу подаются вываренные в нем чайные листья, и каждый берет сколько
может захватить только двумя пальцами, так как для настоящих чаепийц это
составляет высшее лакомство. Из удовольствий на первом план стоят поездки за
город, частью на могилы святых, частью в ханки (монастыри) некоторых известных
своею святостью ишанов (шейхов), или в Чихарбаг Абдулла-Хан, находящийся
недалеко от дервазе-Имама. Первые поездки называются зиарель (богомолье), но в
них религия служит только вывеской, а на самом дел после краткой молитвы
совершаются самые безнравственные вещи. В Персии, особенно в некоторых кварталах
Испагани, я часто встречал возмутительные сцены, как люди после усерднейшей,
по-видимому, молитвы переходили к самым гнусным оргиям, но порочность персиян
является ничтожною в сравнении с тем, что делается в Бухаре. Испорченность
бухарских нравов описать невозможно. Но иначе и быть не может там, где люди
хотят довести целомудрие и нравственность до такой чрезмерной и смешной степени
совершенства; там они должны всегда впадать в противоположную крайность. И у нас
в Европе, к несчастию, еще довольно сильны подобные извращенные понятия о
нравственности, и мне пришлось прийти к такому грустному убеждению в бытность
мою в стране, стоящей во главе новой цивилизации. Посещение ханки всегда
оказывается более дорогим удовольствием, чем богомолье на могилах святых. Живые
подвижники имеют тут точно также, как и усопшие, свои приемные дни. На могилах
последних собирают дань их потомки, а первые удостаивают сами, своими
собственными святыми руками опорожнять мешки поклонников. При народе ишан держит
себя всегда серьёзное, чем обыкновенно, и отлично умеет по наружности поклонника
определить, какого подарка от него можно ожидать, с чем и соразмеряет свои
благословения. Подобные сцены постоянно интересовали меня, а одна, заставившая
меня долго и искренне смеяться, останется мне надолго памятною. Раз я зашел к
одному шейху в окрестностях Бухары, чтоб испросить у него благословение и
небольшое денежное вспомоществование. Первое мне шейх дал тотчас, а со вторым
медлил, как вдруг доложили, что пришел какой-то туркмен, желающий получить
фатиха; его тотчас же поспешили впустить. Его святость проделал свой фокус-покус
с величайшим благоговением, а туркмен сидел, как агнец непорочный. Наконец,
когда на него было ниспослано последнее могучее дыхание, он вынул кошелек, взял,
не глядя и не считая, несколько монет и сунул их в благословлявшую его руку.
Ишан потер их между пальцами, потом кивнул мне, чтоб я подошел и, к величайшему
моему изумлению, не посмотрев даже на монеты, отдал их мне в присутствии
туркмена. Ведь это благотворительно, подумает читатель. Да, так и я думал, пока
не пошел на базар, где продавец хлеба отказался взять у меня одну из этих монет,
объявив, что она фальшивая. Я показал ему остальные, и он нашел, что они все
одинаковы. Суеверный, но в тоже время и хитрый кочевник за поддельный товар
заплатил таковою же монетой, а его святость на ощупь узнал обман и остался в
дураках один я. При поездках за город зажиточные люди обыкновенно берут с собою
свою кухонную и чайную посуду, а менее состоятельные останавливаются в нарочно
для сего устроенных заведениях. Войдя в таковое, всякий старается забиться как
можно дальше вглубь; ибо, по существующему обычаю, надо приглашать всякого
мимоидущего, какого бы он звания и возраста ни был, и разделить с ним трапезу;
всякий справедливо боится, что, пожалуй, вместо обыкновенного отказа «хош!»
найдется много охотников принять приглашение. Не пригласить прохожего считается
везде гнусным грехом, но только в некоторых местностях прохожий обязан не
отказываться. Мне всегда казались забавными смущённые физиономии приглашающих;
впрочем это притворное гостеприимство действует одинаково тяжело и неприятно на
обе стороны. Вообще эти пристанища для гуляющих всегда представляют картину
очень печального веселья. Недостатка нет в грубых остротах, хохот и криках, но
где не присутствует женщина — этот венец общества, там никогда нет и не может
быть настоящей жизни. Чихарбаг-Абдулла-Хан, по-видимому, носит еще более других
мест характер места для общественных увеселений. Тут, среди высоких тенистых
дерев, на берегу канала собираются, большею частью в пятницу после обеда,
ученики многочисленных медресе Бухары и молодежь более состоятельных классов
общества. Чайный котел здесь также неизбежен как и везде, но особенно знаменито
это место боями баранов, Видеть, как эти сильные и разъяренные животные кидаются
друг на друга, ударяются лбами и, главное, как они стараются отбросить друг
друга, доставляет высочайшее наслаждение для бухарца и вообще для всякого
среднеазиата. Что в Испании бой быков, в Англии лошадиные скачки — то в
Туркестан бой баранов. Животных этих обучают для боев и в самом дел
поразительно, что иные из них выдерживают до ста ударов. Когда баранов выпускают
на арену, публика бьется об заклад, сколько именно ударов выдержит то или другое
животное. Иногда слабейший противник убегает, но очень часто случается, что один
из бойцов падает мертвым, с раскроенным черепом. Зрелище ужасное, но для Средней
Азии очень извинительное, если принять во внимание, что и образованная Европа
допускает у себя подобные забавы. Попробуем в легком очерк представить картину
уличной жизни Бухары. Утром, до солнечного восхода, так как религиозные
обязанности заставляют вставать рано, на улицах встречаются по одиночке бегущие,
полузасыпанные, полу умытые, полуодетые люди, спешащие в мечеть, ибо опоздать
считается стыдом, да и может повлечь за собою наказание. Беготня эта поднимает
на ноги всех собак, спящих на улицах где-нибудь в уголках, или на навозных
кучах. Эти исхудалые, несчастные на вид животные, перед которыми стамбульские их
собратья кажутся просто богачами, служат живым доказательством скаредности
лицемерных бухарцев. С собаками вместе просыпаются живущие не лучше их парии
бухарской столицы, т. е., несчастные, пораженные неизлечимою проказой,
прозябающие в какой-нибудь жалкой палатке, где-нибудь на улице в глухом
уголочке. В Персии их можно встретить только на больших дорогах, вдали от
городов и деревень, а здесь им дозволяют жить среди города, ибо санитарные меры
пока еще не известны. Ужаснее судьбы этих несчастных и вообразить нельзя, а они
к тому живут еще так долго! Мать прикрывает кой-какими лохмотьями своих,
рожденных в проклятии, детей, а отец берет самых обезображенных из них и садится
где-нибудь на улиц просить милостыни у проходящих — просить милостыни, чтоб еще
долее влачить такую жизнь! Когда солнце достаточно осветит эту ужасную картину,
город везде начинает понемногу оживляться. Народ толпами возвращается из
мечетей; по узким, кривым улицам начинают встречаться проникающие во все ворота
города пёстрые толпы ослов, навьюченных дровами, хлебом, травою, большими
горшками с молоком и сосудами со сливками. Громкие крики погонщиков, продавцов и
покупателей смешиваются со страшным ревом ослов (которым бухарские особенно
славятся). Как взглянешь на эту суматоху, то так и кажется, что все сейчас
полетит на землю и щепы смешаются с молоком, трава со сливками, уголья с хлебом,
шелковичные коконы с творогом, но ничто не падает, ничто не проливается.
Погонщики совершенно братски колотят друг друга, но, несмотря на это, товары
достигают благополучно места своего назначения. Час спустя после восхода солнца,
бухарец обыкновенно уже сидит за чашкою ширчая (чай с молоком), напитка,
состоящего из чёрного, похожего на табак, кирпичного чая с большой примесью
молока, сливок, или солёного бараньего сала. Этот любимый татарский напиток, с
накрошенным в него громадным количеством хлеба, скорее можно назвать супом, чем
чаем. Хотя вкус его и очень восхваляется всеми, но я с трудом мог к нему
привыкнуть. После чая начинаются обыкновенный дневные занятия. На улицах все
оживлено: носильщики, с большими тюками, спешат на базар; — это товары мелочных
торговцев, которые ежедневно на ночь уносят домой все содержимое своих лавок;
там ведут в караван-сарай длинную вереницу двугорбых верблюдов, которые,
навьюченные произведениями Средней Азии, должны будут отправиться отсюда по всем
направлениям; тут тянется караван, пришедший из России, сопутствуемый
ястребиными взглядами таможенных чиновников с братией, так как длинные тюки
содержат в себе ценные произведения неверных рук и потому должны быть оплачены
двойною пошлиною. Купцы разных наций и вероисповеданий спешат тоже вслед за этим
караваном и часто новый какой-нибудь товар продается прежде, чем успеют его
распаковать, при чем афганцы, персияне, таджики, индусы горячатся больше, чем
герои биржи в Париже, Вене, или Франкфурте на Майне. Один только киргиз,
погонщик верблюдов, пришедший из пустыни, остается спокоен: он совсем поражен и
не знает, чему более дивиться — роскоши ли мазанок, пестроте ли костюмов, или
шумящей толпе. Ин всегда казалось очень забавным, как бухарец, в качестве жителя
большого города, смеется над таким кочевником и старается пристыдить дикого сына
пустыни утончённостью своих нравов, своею цивилизацией. Пока базар в полном
разгар и оглашается криком, стуком, бранью, доводящею до драки, жадная к
познаниям молодежь осаждает многочисленные медресе (коллегии), где, приобретая
ненужный знания, они вместе с тем изучают высшую глупость и низкое лицемерие.
Всего интереснее первоначальный школы, помещающиеся на самой середин базара,
иногда окружённые 10 — 15 кузницами медников. Чрезвычайно забавно видеть, как
мулла в этих открытых училищах, среди этого адского шума учит читать ребят,
сидящих в несколько рядов вокруг него. Понятно, что при аккомпанементе молотков,
приводимых в движение здоровенными руками, трудно что-нибудь расслышать. Учитель
и ученики сидят красные от крика, как индейские петухи, и только по раскрытым их
ртам, да по налитым на лиц жилам видно, что они заняты учением. Около полудня (я
разумею летом, так как о зимнем времени я из личного опыта ничего не знаю)
базары и улицы немного стихают; на берегах водохранилищ и каналов правоверные
занимаются священными омовениями: один моет свои потные, грязные ноги, другой,
рядом с ним, тою же водою полощет рот, а третий ею же утоляет свою жажду. По
определению ислама, вода, состоящая больше, чем из 120 половин, слепа, т. е.
грязь и нечистоты пропадают в ней, и поэтому правоверные имеют привилегию
всякую гадость считать чистою. После полуденной молитвы в мечети, город опять
оживает, все вторично принимаются за дневную работу, но уже не так усиленно и
ненадолго: мусульмане шабашут рано, долее всех работают жиды и индусы. Первые,
занимающиеся большею частью окраской шелка, двигаются по улицам робко, с видимым
страхом, забитые долгим и тяжелым рабством; последние же бегают как сумасшедшие
- их смелый вид доказывает, что родина их не далека и не далеко то время, когда
и они были самостоятельным народом. А кто знает, где отечество несчастных детей
Израиля, кто помнит то время, когда и они были господствующею нацией? За три
часа до заката солнца избранное общество отправляется в ханку (монастырь)
насладиться религиозно-литературной беседой. В этот час дня искусные чтецы в
преддвериях ханки декламируют вслух что-нибудь из Месневи. В мастерском этом
произведении восточной поэзии встречается много высоких мыслей относительно
земного бытия; язык, стих, метафоры действительно восхитительны, но бухарцы не в
состоянии понять этого произведения и восторг их всегда притворный. В этих
собраниях очень часто сидел подле меня какой-то господин, который всегда
приходил в экстаз от чтения и вздыхал и пыхтел при этом как бык. Я всегда
дивился на него, но когда в последствии навел о нем справки, то узнал, что это
был отвратительнейший скряга, который владел несколькими домами и, не смотря на
это, готов был пройтись колесом из-за гроша. Слушатели далеки от того, чтоб
сообразовать свою жизнь с тем, что им читается, но приходить в восторг от красот
поэзии повелевает обычай. Всякий отлично знает, что вздохи и возгласы соседа его
притворны, но всё-таки старается превзойти его в выражении своих чувств. Не
успеют последние лучи солнца скрыться на запад песчаной пустыни, как татарская
столица начинает уже отдыхать. С наступающей прохладой улегаются и облака
удушливой пыли; перед многими домами, где водоемы и каналы близко, улицы
поливаются и выметаются. Жители садятся в тени, ожидая призыва её вечерней
молитве. После неё на улицах воцаряется совершеннейшая тишина, так как все
усаживается за громадными блюдами пилава, а набив желудок этим тяжелым, жирным
кушаньем, естественно, всякий теряет охоту двигаться. Два часа по закате солнца
город кажется точно вымершим, по улицам раздаются только тяжелые шаги миршебов,
строго смотрящих за ворами, за охотниками до любовных похождений, и готовых
схватить даже самого честного человека, если он осмелится переступить за порог
своего дома после того, как барабан по повелению эмира пробил зорю и повелел
всем спать. Что особенно бухарцам нравится в этой городской жизни, что их
преимущественно пленяет в ней, угадать не трудно: это привычка к однообразию её,
отсутствие пока еще роскоши, делающее мало заметною по наружности разницу между
различными классами общества. Это довольство равною для всех бедностью или,
лучше сказать, отсутствием видимых различий состояний, делает Бухару в глазах
многих азиатов любимейшим местечком. В Тегеран я встретился с одним персиянином,
который, пробыл пятнадцать лет невольником в Бухаре и, возвратясь на родину, в
среду родных, продолжал вздыхать и изнывать по татарской столице. Сначала ему
очень нравились предметы европейской роскоши на тегеранском базар и он, как
дитя, восхищался ими, но впоследствии увидел, что их покупают только богатые, а
на него, благодаря его бедному бумажному костюму, все смотрят с презрением —
неудивительно следовательно, что он захотел снова возвратиться туда, где хотя он
и не знал больших земных благ, но где за то ни что не кололо ему глаз.
XII
Бухара, опора ислама.
«Бохара миреви дивапеи,
«Лаики зендшири зинданханеи».
(В Бухару идешь ты? Но ты с ума сошел, Достоин, чтобы тебя в цепи заковали).
Mесневи.
Что Бухара считает себя
опорой ислама, источником чистейшего магометанского учения — это было уже
замечено и нами, и другими путешественниками. За туркестанскою столицей
признается это достоинство не одними бухарцами, но и всеми последователями
ислама во всех землях и странах земного шара и все еще высоко чтут ее за это. На
среднеазиата-поклонника везде на его пути — и в Малой Азии, и в Аравии, и в
Египте, — все принимают с необыкновенным почтением и уважением, как человека,
соединяющего в себе все исламистские добродетели. Когда западный магометанин,
особенно османли, глубоко оскорбленный нововведениями в его отечестве,
навеянными европейскою цивилизацией, желает попокоить взор на учении своего
пророка, сохранившемся во всей чистоте, то с благоговением смотрит на своего
единоплеменника и единоверца, пришедшего с дальнего востока; глубоко вздыхает
он, и бесконечно многое высказывается в его возгласе: «ха Бохараи шериф!» (Да,
благородная Бухара!) Разница между магометанством восточным и западным
представляет действительно замечательное явление и стоит того чтоб ее ближе
порассмотреть. Когда я спрашивал мулл в Бухаре, как это сделалось, что они
лучшие магометане, чем жители Мекки и Медины, где жил и учил сам Магомет, то они
отвечали мне, что: «если факел бросает свет свой вдаль, то у собственного
подножия его всегда бывает темно». Как аллегория, ответ хорош, но европеец этим
не может удовлетвориться, и мы попробуем, так как дело действительно стоит того,
поближе познакомиться, во первых, с сущностью помянутого различия, а, во вторых,
с его причинами. Первая, главная, характеристическая черта состоит в том, что
мусульманин далёкого востока упорно, с диким фанатизмом, придерживается каждой
буквы Корана, преданий, и, как истый восточный житель, с ужасом, с отвращением
смотрит на всякое нововведение, — короче, всеми силами души стремится
поддерживать религию на всех тех началах, на каких она покоилась в блаженные
времена (Vakti Seadet) пророка и первых халифов. Но это еще не достаточно
выясняет дело, так как в тех странах ислам принял такую форму, до которой
некоторые чересчур ревностные толкователи сунны стремились довести его, но в
которой, сколько нам известно, он действительности никогда не существовал.
Фанатизм, этот главный источник лицемерного благочестия, позорил все религии до
тех пор, пока общество, находясь в детском период цивилизации, еще не в
состоянии было прозреть чистого света истинной веры. Мы встречаем фанатизм во
всех странах, у всех народов, но нигде он не выступает так ярко, нигде не
принимает он такой отвратительной личины, как на востоке, где религия, чтоб
образовать душу, больше всего отдается телу, где ради нравственного влияния
возятся с одною внешностью, сильно пренебрегая внутренним миром. В Бухаре в
полном ходу следующее правило: «человек должен только казаться, а что у него на
душе — до того никому дела нет». Можно быть самым величайшим злодеем и избежать
наказания, как здесь, так и на том свете, исполняя лишь одни внешние предписания
религии. Прекрасно пояснить это может молитва вора Абдурахмана (Duai Duzd
Abdurrahman), весьма любимая на восток и состоящая приблизительно из 13—20
пунктов. Вот её история: Когда пророк (будь над ним благословение Божие) жил в
Медине, он вошел как-то раз после полудня на террасу своего дома, чтоб совершить
молитву и, окинул своими блаженными очами окрестности, увидел на одной из улиц
города погребальную процессию; за гробом шло лишь несколько человек, но от него
исходило чудесное сиянье, целое море розовых лучей. Как только кончил пророк
свою молитву, он поспешил за процессией и присоединился к ней; к великому своему
удивлению, он увидел, что сияние не переставало окружать гроб, даже и по
опущении его в могилу. Вне себя от изумления, он обратился к жене покойного и
спросил, кто такой был её муж? «Ах!» отвечала та, плача, «Боже, милостив буди к
нему! Он умер ко благу людей, ибо был разбойником, убийцею и пролил вдовьих и
сиротских слез на своем веку больше, чем выпил воды. Одно несчастие было плодом
его дел. Я часто его увещевала, но ничто не помогало. Жил он грешником и умер
грешником!» — «Как» воскликнул пророк, все более и более удивляясь. «Неужели не
было в нем ничего хорошего, неужели он никогда не каялся, ничем не искупил
грехов?» — «о, нет!» отвечала женщина, рыдая. «Он только имел обыкновение после
постыдных дел своих в течение дня прочитывать вот эти немногие строчки (при этом
она показала помянутую молитву), а затем ложился спать, и на другой день снова
принимался грешить.» Пророк взял молитву и, убедившись в чудном её действии,
оставил ее в наследие правоверным.»
Излагать это учение нет
надобности; легко можно себе представить, какие ужасные дела при всем своем
благочестии может совершать среднеазиат, запасшись таким рецептом. Но при
выполнении этого основного начала внешней обрядности, особенно бросаются в глаза
законы о соблюдениичистоты, исполняемые в Средней Азии с строжайшею точностью,
между тем как известно, что нигде не встретишь такой отвратительной грязи, как в
той же Средней Азии. По магометанским законам тело после каждого испражнения
делается нечистым и требует омовения, смотря по обстоятельствам, или малого —
абдест, или большого — гусль. Тоже наблюдается и относительно одежды: она
требует очищения, если на нее попадет хотя малейшая капля (В глазах восточного
жителя европейцы стоят на одном ряду с собаками, по способу мочения. На востоке
при совершении этого акта приседают па корточки, боясь, иначе, малейшей каплей
осквернить платье). Только первое соблюдается строго во всех исламистских
странах; последнее тоже не упускается из виду, но нигде, кроме Бухары, я не
видел, чтобы люди совершали молитву голые, из боязни, что платье их могло
каким-нибудь образом, не заметно для глаза, быть запятнано. Не смешно ли, что
религия исписывает тетради, даже целые книги о том, как очищать тело после
большого и после малого испражнения. Закон предписывает, например, истиндша
(удаление), истинка (омовение) и истибра (высушивание), т. е. нужно сначала
взять небольшой комок земли, потом по крайней мер одно ведро воды и наконец один
локоть холста, чтобы тщательно удалить малейшие следы нечистоты. В Турции,
Аравии и Персии исполняется одно только истинка, а в Средней Азии — все три, и,
чтоб более выказать свое благочестие, ревностные магометане имеют всегда про
запас в чалме три или четыре комочка земли, которые они обделывают особенным для
того ножом, носимым ими при себе. Заповеди сии часто проводятся иными в
исполнение открыто на базарах, чтоб выставить напоказ свое ревностное
благочестие. Никогда не забуду я той скверности, которой был раз свидетелем,
присутствуя притом, как один учитель давал своим ученикам обоего пола
практический урок в применении к делу комков земли, холста и проч. Никто не
видит в этом ничего постыдного, никто не замечает того, что от крайности в
физической чистоте все впадают в крайности нравственной грязи. Такой чрезмерной
строгости в исполнении гаремного закона, какая существует в Бухаре, вы не
встретите у западных магометан и даже у фанатической секты вахабитов.
Противоестественный закон этот необходимо вызвал и противоестественный порок. Мы
встречаем его и в Турции, и в Аравии, и в Персии, но во всех этих странах он
относительно мало распространен и считается отвратительным грехом, как
толкователями Корана, так и общественным мнением. В Средней же Азии, особенно в
Бухаре и Коканде, он дошел до ужасающих размеров, и так как тамошняя религия не
считает его грехом, а видит в нем силу, охраняющую нарушение законов гарема, то
браки à la Тиверий сделались делом обыкновенным. Сами отцы без малейшего
угрызения совести уступают своих сыновей друзьям и знакомым за известное годовое
содержание. Наше европейское перо не поддается описанию этого гнуснейшего порока
во всей его полноте; то, что мы могли сказать есть не более, как слабый намек,
впрочем совершенно достаточный, чтобы показать, в какую пропасть преступлений
влечет чрезмерное религиозное рвение. Тоже самое можно сказать и относительно
запрещения спиртных напитков. Коран повелевает воздерживаться не только от вина,
но и ото всех опьяняющих напитков, так как опьянение может повлечь за собой
забывчивость в исполнении молитв и других священных обязанностей. Западные
магометане хотят видеть в словах Корана только в самом строгом смысл запрещение
вина (шараб); употребление же арака (спирта), который образованные классы в
Турции и Персии любят, как в России водку, считается меньшим преступлением.
Многие идут дальше и даже не считают вовсе грешным пить арак в смеси с водой,
так как в Коран об арак ничего не сказано. В Бухаре же чрезвычайно трудно найти
вина или водки; даже немагометане, как, например, жиды индусы, наслаждаются ими
только тайком; правоверные же считают грехом даже самое произношение слов: шараб
и арак. По всему этому можно бы, кажется, было думать, что здесь повсюду
царствует величайшая трезвость. Но как ужасен суррогат, изобретенный лицемерием
в замену этих напитков! Среднеазиаты делят опьяняющие вещества на два отдела: на
жидкие и твёрдые, и на сколько первые запрещены, на столько последние (под
которыми разумеют наркотические вещества) считаются невинным. Знаменитые
константинопольские пожиратели опиума, теперь почти все вымершие, но в начале
еще нынешнего столетия удивлявшие собою прохожих на известной площади Дирекалти,
а также встречающиеся там и сям потребители гашиша в Египте, и териака в Персии,
все они совершенно теряются в сравнении с среднеазиатскими бенги (бенг — яд из
растения canabis mdica). В вышепоименованных странах опиум, имея возле себя отца
Бахуса, никогда не мог добыть себе слишком большого числа поклонников; В
Туркестан же, где Бахуса не знают, царство его весьма обширно и ужасны
опустошения, причиняемые им. Число истребителей бенги особенно велико в Бухаре и
в Коканде, и я не преувеличу, если скажу, что три четверти всего учёного и
чиновничьего мира, весь цвет туземной интеллигенции, сделались жертвою этого
порока. Правительство смотрит равнодушно на самоубийство сотен, тысяч людей, и
никому в голову не придет принять против этого меры, между тем как за один
глоток вина осуждают на смерть. Эти и многие другие неустройства можно приписать
только выходящей из границ точности в исполнении существующих законов. Но они
далеко еще не так поражают нас, как те воззрения, которые восточное
магометанство выработало из своего толкования преданий и которые в западном
магометанстве не только не господствуют, но осуждаются часто тамошними учеными,
как заблуждения. В этом отношении прежде всего обращают на себя внимание ордена
или благочестивые братства, которые в Средней Азии чрезвычайно распространены и
основаны на таких строгих правилах, исполняемых с такою искренностью, что даже
вряд ли можно было ожидать этого от характера восточных жителей, особенно
среднеазиатов. Между тем как в западноисламистских странах различные ордена,
овеизи, кадри, джелали, мевлеви, руфаи, бекташи и другие, с которыми улемы
постоянно враждовали, могли завлечь в свой заколдованный круг только лишь
несколько отдельных горячих голов, — накишбенди, махдум-аазами в Бухаре и
Коканде воплотили в себя целые массы народонаселения, посвящаемые, руководимые и
управляемые начальниками этих орденов, образующими как бы отдельные
правительства. В каждом обществе, как бы оно ни было мало, кроме обычных муллы и
рейса, всегда есть еще один или несколько ишанов (орденских священников), и я не
мог достаточно надивиться, какое слепое повиновение, какое почтение оказывают
этим ишанам все члены братства. Понятно, что часто эти влиятельные ишаны
становятся поперек дороги правительству, но оно никогда не осмеливалось
сдерживать их, ибо ордена эти считаются неразрывно связанными с исламом;
несмотря на то, что Магомет именно говорит: «Ла рухбанитум филь ислам» (в исламе
нет монахов), сам хан, министры его и многие улемы, искренне ненавидящие ишанов,
как могучих соперников, в угоду общественному мнению носят внешние атрибуты того
или другого ордена.
Не менее также поразительно,
как относятся восточные магометане делам: урф, т. е. решение судьи по совести,
когда бывает недостаточен шариат (закон Корана), а также канун (законы
позднейших законодателей), ими отвергаются, как еретические нововведения;
признают же они только один единственный шариат, то есть законы, вытекающие из
Корана. Понятно, что закон, начертанный Магометом 1200 лет тому назад для
общественных потреб хитрых арабов, не может годиться для всех времен и для всех
мест. Typция и Персия давно уже сознали необходимость улучшить его и, не смотря
на противодействие улемов, видевших в том гибель своего могущества, все-таки
пополнили недостаточность первоначального кодекса. В Туркестан же не только
муллы, но и правительство и народ сильно вооружены против всякого изменения в
законе, так как в их глазах Коран «тонок как волос, остер как меч и
удовлетворяет всем потребам» и, по их мнению, со всяким, думающим иначе, должно
быть поступлено, как с самым черным неверным. В Средней Азии едят, пьют,
одеваются по предписаниям Корана; в собирании податей, в ведении войны, в
отношениях к другим державам руководятся все тою же книгою, и подобно тому, как
все нововведения в домашней жизни запрещаются, как грех великий, точно также
татарские владыки не могут de facto признать ни Англии, ни России, ни других
новых государств, о которых в Коране не упоминается. Они скорее считают своим
долгом на основании закона джихад (религиозной войны) покорить эти страны, что
естественно должно привести их самих к конечной погибели, как это мы уже и видим
теперь. К суннитам персиянам восточные магометане стоят в других отношениях, чем
их западные единоверцы. Известно, что раскол этот (конечно, нередко под
предлогом мирских целей) породил собою много долгих и кровавых войн. Турки и
арабы с начала раздоров между династиями Аккоюнлу и Каракоюнлу часто мерялись с
персиянами в опустошительных войнах; глубокая ненависть и страшная злоба
разъединили между собой эти две секты, но все-таки ни турки, ни арабы никогда не
заходили во вражде до того, чтоб изгнать своих врагов шиитов из союза ислама.
Они смотрели на персиянина, как на еретика, но, все-таки, как на мусульманина,
дозволили ему доступ к священным городам и другим местам поклонения, молились с
ним в одной мечети; в новейшее время вражда османли с иранцами настолько уже
ослабела, что они законным образом могут даже родниться между собою. Но в
Средней Азии и намека не видишь на что-нибудь подобное. Здесь персиян с самого
их от деления и доныне одинаково ненавидят и преследуют. В 945 году гиджры они
обвялены неверными и изгнаны фетвою некоего муллы Шевисед дин-Магомета,
самаркандского уроженца, жившего в Герате во времена султана Гусейн-Баикера.
Фетва эта причинила много горя несчастным иранцам: туркмены, конечно, точно
также брали бы их в неволю, но без фетвы их нельзя бы было продавать на рынк
Фанатической Бухары, потому что они не были бы заклеймены названием кафира, а
только кафиров можно продавать. Все жестокости, которым подвергаются персияне,
делаются под видом наказания неверных; когда я принимался усовещивать
туркменских мулл тем, что ведь персияне веруют в тот же Коран, в того же
пророка, они все-таки фетву объявляли правильною, а противное уверение
западно-магометанских ученых осуждали, как заблуждение. В обрядовой части
религии у среднеазиатов есть также существенный уклонения. Сильно сомневаюсь я,
чтобы в Багдаде или в Дамаске в самый блистательный период ислама рейсы
(офицеры) ежедневно ходили по улицам и, отрывая людей от дневных занятий,
заставляли их читать молитву фарци-айин, а незнающих тут же бы наказывали, как
все это проделывается в настоящее время в Бухаре. В обрядах обрезания, венчания,
погребения есть много обычаев, вовсе неизвестных у западных магометан; все пять
дневных молитв состоят из большого числа рикат (коленопреклонений), а в езанах
(призывах на молитву) певучий тон и, вообще, благозвучие строго запрещаются и
заменяются каким-то глухим рычанием. Меланхолические езаны, раздающиеся со
стройных минаретов Босфора и так волшебно действующие на слушателя среди тишины
лунной ночи, считаются в Бухаре грехом и слушаются с глубоким отвращением. Если
теперь, в придачу ко всему этому, представить себе множество мечетей, медресе,
битком набитых учениками, карихан (домов, где в течении дня слепцы распевают
Коран), большое количества ханок, где фанатики денно и нощно выкрикивают свои
сикры, да при этом вообразить еще себе ломание, строгий взгляд и дикую
фанатическую наружность мулл, ишанов, дервишей, калентеров и аскетов, то,
пожалуй, можно бы еще было составить себе приблизительное понятие о Бухаре, этой
опоре ислама, этом гнезде доведённого до крайнего религиозного рвения, где
учение аравийского пророка вылилось в такую форму, в какой, может быть, сам
основатель никогда не пожелал бы его видеть. Отсюда учение его с такими же
тенденциями распространилось через Афганистан в Индию, в Кашмир, в китайскую
Татарию, а на север — до Казани. Во всех этих местах бухарский дух пустил
глубоко свои корни. Бухара — их учитель; Бухара, а не Константинополь и не
Мекка, — их уставщик. Наша цивилизация встретит в этих странах гораздо более
твердый камень преткновения, чем в западной Азии, что Россия, вероятно, уже и
испытала на опыте по отношению к ногайским татарам; а если британское
правительство, с своими сорока миллионами магометанских подданных в Индии, по
сие время еще не узнало этого на деле, то очень жаль, потому что гибельные
последствия этого неизбежны. Вот все, что я хотел в настоящее время сказать о
различии восточного магометанства от западного. Перейдем теперь к исследованию
причин этого различия, что не потребует большого труда.
Во первых, Азия, это средоточие и колыбель религиозного фанатизма, чем далее к
востоку, тем все более остается верна своему старому типу. Как, вообще, жители
Индии, Тибета и Китая фанатичнее или, лучше сказать, более азиаты, чем
последователи. ислама, так восточные магометане много ревностнее в дел религии,
чем их западные единоверцы. Во вторых, именно то до крайности доведенное
религиозное рвение, которое среднеазиаты выказывали, когда еще исповедовали
учение Зороастра, и было причиной, что обращение их в ислам стоило арабам такого
неимоверного труда. Более двух столетий прошло, пока учению Магомета удалось
окончательно вытеснить старую религию. Едва завоеватели уходили из покорённого
города, как новообращенные жители его снова принимали старую свою веру и город
нужно было снова завоевывать, жителей снова обращать в ислам. Когда, наконец,
железное тер пение арабов сделало среднеазиатов магометанами, они с тем же пылом
отдались новой вере, с каким до того времени держались старой. В начал правления
Саманидов мы уже встречаем за Оксусом людей, знаменитых во всем исламе, частью
своею ученостью, а частью образцовым благочестием. Белх уже в то время приобрел
себе название Куббетюль Ислам (купол ислама), а Бухара, как город, так и вся
страна, уже тогда кишела могилами святых и ученых мужей; таким образом понятно,
что города Туркестана могли успешно соперничать в благочестии и учености с
Багдадом, тогдашним центром магометанского мира, где религиозная добродетель
стала затемняться возраставшим мирским его величием. С пресечением рода
Саманидов, особенно же во время монгольского завоевания, дело религии потерпело
временный ущерб, но само здание её не было потрясено до основания, как в
Багдаде, где Хелаку, уничтожив халифатство Мотасимбиллаха, развеял главные силы
ислама по всем направлениям. Дело религии в странах за Оксусом продолжало в тиши
идти своим путем, и так как усилие Тимура сделать свою родину центром
магометанской учености впоследствии поддерживалось и правителями из династии
Шейбани, то нет ничего удивительного, что Бухара до сих пор удержала у себя во
всей сил тот религиозный строй, который характеризовал ислам лишь в средние
века. В третьих, вследствие отпадения Персии великое тело суннитского мира
разделилось, если не морально, то Фактически, на две части, далёкие одна от
другой. Теперешние путешествия в священные города Аравии, конечно, далеко не
могут заменить тех частых сношений, которые во времена халифатств
беспрепятственно соединяли восточные границы ислама с западными. Намеренно
поддерживаемая обоюдная вражда двух сект сделала проезд через Персию опасным для
суннитских путешественников; западные сунниты, вследствие крупных политических
переворотов и вследствие постоянных соприкосновений с христианским западом, не
могли оборониться от влияния соседних социальных отношений; восточным же
суннитам, предоставленным самим себе, не представлялось повода ввести в обществе
своем какие-нибудь изменения или нововведения, так как они презирают еретическую
Персию также сильно, как китайцев или индусов, а только через Персию они и могут
поддерживать свои сношения с западом. Наше замечание, что западный ислам, под
влиянием христианского запада, во многом отделился от восточного, наведет иных,
пожалуй, на мысль, что постоянно увеличивающиеся сношения Европы с Азией, все
более учащающийся обмен мыслей между европейцами и азиатами поведут к
окончательному преобразованию порядка вещей, или что — как думают иные рьяные
путешественники нынешнего времени — Азия со временем оевропеится. Вопрос этот,
конечно, заинтересует всякого, кто желает улучшения социальных отношений в Азии
(а кто этого не желает?), Он слишком важен, чтоб говорить о нем так вскользь,
но, все-таки, чтобы избежать увлечения ложными заключениями, я не могу не
заметить, что вышеприведенное мною явление не может служить мерилом, потому что
было бы в высшей степени жаль, если бы современное общество в Турции и Персии
сочло за чистое золото ту мишуру европейского образования, которой оно хочет
покрыть свое грязное платье. Влияние европейское на востоке, к сожалению, весьма
мало, даже ничтожно. Перенять кой-какую одежду, кой-какую мебель — еще очень
мало, и это может только обмануть не опытный глаз туриста; внутренний же мир
восточных жителей остаётся таким же, каким он был в старые времена, и каким,
вероятно, останется еще долго; очень долго. Ведь уже давно решено, что мы,
европейцы, стоим в таком же отношении к нашей матери Азии, в каком, в .частной
жизни, иной взрослый сын находится к своей матери, не могущей отрешиться от
старых предрассудков. Мать Азия нас воспитала, духовно и физически мы ведем свое
начало от ней, но никто не упрекнет нас в непочтительности и неблагодарности к
ней за то, что мы не принимаем некоторых устаревших воззрений «почтенной мамаши»
и по временам, для её собственного же блага, навязываем ей свои идеи. Да,
навязываем, говорю я, так как все, что заимствовано до сих пор Азией у
европейской цивилизации, заимствовано не по убеждению, не по любви к нашим
социальным отношениям, а единственно из одного только страха. Любовь же по
принуждению бывает недолговечна, и сильно бы обманулся тот, кто по совершающимся
ныне изменениям в западной Азии захотел бы решать о будущности всей Азии.
XIII
Торговля невольниками и
жизнь невольников в Средней Азии.
Последний пушечный выстрел
победителей унионистов в братьев своих, сепаратистов, если не положил совсем
конца торговли невольниками на западной части нашего полушария, то все-таки
пробил в ней значительную брешь. Развевающиеся флаги Великобритании в водах
восточной Африки, недавнее покорение всего Кавказа Россией также значительно
подорвали этот отвратительный торг на магометанском запад Азии. Пускай ленивые,
изнеженные сыны востока со злобою смотрят на гуманные стремления Европы —
продажа и покупка людей теперь совершается все-таки с известным стеснением:
везде скрывается она, стыдясь, а скорее, пожалуй, боясь европейского глаза. Без
всяких ограничений, беспрепятственно, производится теперь эта торговля
единственно только в одной Средней Азии — вековом средоточии азиатского
варварства и дикости, где и по сие время ежегодно целые тысячи несчастных
делаются её жертвами, тысячи людей не беспомощных и не стоящих на низшей ступени
человечества, как негры, а тысячи сочленов нации, некогда известной своей
образованностью, отрываемых от очага лучшей цивилизации, из круга семьи
увлекаемых в тяжкое рабство. Картина среднеазиатской жизни невольников еще
печальнее и ужаснее, чем та, в которой талантливая американская писательница
изобразила судьбу негров в своем отечестве. Европа имеет еще недостаточно
сведений о несчастном положении дел дальнего востока, и потому, мне кажется,
будет уместно, если я здесь сообщу то, что знаю о нем из моих личных наблюдений.
Туркмены для северо-восточной и северо-западной части Ирана, даже, можно
сказать, для всей Персии, то же, что португальские невольничьи маклеры и
арабские торговцы слоновою костью для внутренней Африки. Там, где, в
непосредственном соседстве с цивилизованной страной, в неизмеримых пустынях
кочуют кочевники, разбой и невольничество более или менее неизбежны. Бедная,
скудная при рода пустыни оделила своих детей неукротимою страстью к приключениям
и чрезвычайной физическою силою; в чем отказывает им их иссохшая почва, то
должны они искать у своих более благословенных соседей. Но сношения эти весьма
редко совершаются мирным путем: кочевник совершенно безнаказанно может
удовлетворять своим разбойничьим, наклонностям, ибо ограбленный, мирный
земледелец не может и не смеет преследовать его в бесследной, песчаной пустыне,
служащей ему как бы крепостью. В таком несчастном положении находились прежде
все города по окраинам Сахары и Аравийской пустыни; в последней и теперь еще
караваны подвергаются величайшим опасностям; Персии же приходится испытывать это
несчастие во всей его силе, так как с севера она граничит с самыми обширными и
ужасными пустынями, населенными самыми дикими изо всех кочевников. Боям времен
седой древности между иранцами и туранцами, воспетым певцом «книги царей»,
по-видимому, положили начало насилия туранцев. Об обеих этих враждующих сторонах
говорится, что он принадлежали к одному и тому же племени, но мы видим, что во
времена походов Александра Великого жители северного Ирана обращались к великому
македонянину, прося у него помощи и защиты против их северных соседей, которых
они изображали существами ужаснми, не имеющими человеческого образа (вероятно
они были монгольского типа, так не сходного с иранским). Александр повелел
выстроить большую стену от Каспийского моря до Курдских гор; но это исполинское
сооружение, достойное своего основателя, могло принести пользу ненадолго, как и
подобная ему китайская стена. Яростный поток варваров пробил и ту и другую, и
опустошения, производимые ими, только тогда стали уменьшаться, когда
энергические правители были в состояния заменить каменную стену оплотом из
хорошо вооружённого войска. Тоже самое можно сказать и теперь. Туркмены и
узбеки, относительно времени и размера своих набегов на Иран, соображаются с
тем, в каком состоянии находится страна — в мирном или неспокойном, а также
энергичен ли и могуществен правитель тех провинций, на которые направляется
нападение. Во время последних смут, при воцарении каджарской династии, отдельные
толпы иомутов в своих разбойничьих набегах, доходили почти до Испагани, несмотря
на то, что большая часть их служила под знаменами Ага-Мехемед-Хана;
текке-туркмены между тем проникали с северо-востока до Сеистана. В последнее
время больше всего страдают две провинции —Хорассан и Мазендаран. Туркмены
тщательно изучают сначала характер новоназначенных в эти провинции губернаторов
и, если увидят, что это люди трусливые, беспечные (как это часто случается), то
тотчас же начинают делать набеги на беззащитный области и, наоборот, носа не
смеют показать, если во глав правления стоят достойные люди. Во время моего
путешествия дороги в Хорассан были так безопасны, что даже одинокие
путешественники могли проходить там, где прежде самые большие караваны шли не
иначе, как под прикрытием батареи и отряда войск; а происходило это оттого, что
губернатор Хорассана, Султан-Мурад-Мирза, был грозою для разбойников: строго
следил он за малейшим их движением, нападал на них в их собственных убежищах,
едва они осмеливались только показаться, и без жалости их всех вырезывал. В
Астрабад же, где, напротив, правителем был человек слабый — иомуты нападали на
персиян у самых стен этого города. Все туркменские племена, как живущие по
окраинам пустыни, так и в ней самой, считают похищение людей до того неразрывно
связанным с их собственным существованием, что без него пребывание в пустыне
кажется им совершенно немыслимым. Что у других народов подразумевается под
«надеждой на хорошую жатву», то у туркмен заменяется «надеждою на открытия
дороги в Иран», и в то время, которое в других странах употребляется на
возделывание полей, на их орошение, здесь уходит на дрессировку лошадей, правку
оружия, на упражнения, подготовительные для набегов. Обычай сделал из этого
отвратительного занятия честное ремесло: на разбойничий набег смотрят, как на
джихад (священную войну) против неверных шиитов; отправляющиеся на грабеж герои
получают на дорогу даже благословения духовенства; в случае, если кто из них
заплатит жизнью за гнусное это дело, его объявляют святым мучеником, над могилой
насыпают высокий холм с знаменем на вершине (убитых редко оставляют в
неприятельских руках) и впоследствии с сокрушённым сердцем ходят на поклонение
ко гробу святого разбойника.
Как велико опустошение тех
провинций, которые особенно часто посещаются туркменами, можно себе представить,
зная, как последние смотрят на это дело. Никакая война, никакое другое бедствие,
свойственное первобытным народам, не может сравниться с этим бичом. Не говоря
уже о больших дорогах, где останавливается всякое движение, даже бедный пахарь,
прежде чем возделывать свое поле, должен сперва выстроить на нем башню, в
которую мог бы укрыться от вражеского нападения врасплох. Самая маленькая
деревенька, и та бывает обнесена кругом высокими стенами, но и за ними жители её
небезопасны: на такие укреплённые места разбойники нападают большими шайками и
часто уводят в неволю всех до одного людей со всем их добром. В восточном
Хорассане мне приходилось видеть деревни, жители которых, несмотря на близкие от
них леса, мерзли зимою, так как никто не решался выходить из за стен; другие
страдали от голода, потому что водяные мельницы находились вне деревни и пройти
к ним решались только в крайнем случае, с вооруженным прикрытием, Как
основателен страх попасть в плен к туркменам, это уже известно читавшим мое
путешествие. Конечно, тяжка судьба негров, кучами в тесном подполье корабля
перевозимых в Америку, но не легче и судьба персиянина: хищник целые часы, даже
дни, мчит его, привязанного за ноги к лошади позади своего седла, томимого
голодом и жаждою, далеко от его милой родины, от дорогих его сердцу. Как велики
должны быть лишения и страдания иранца, привыкшего к вареной пище, к удобствам
постоянного жилища, к благам своей цивилизации и вдруг перенесённого в — палатку
бедного и дикого туркмена, в суровый климат глухой пустыни, где его, закованного
в тяжёлые цепи, тиран хозяин денно и нощно осыпает бранью, насмешками,
проклятиями и ударами! Истинно, тяжелою прыткою представляется жизнь его среди
кочевников, но это только еще начало великих его бедствий и, как всякое начало,
чрезмерно тягостно должно оно быть для несчастного. Похищением людей в настоящее
время занимаются только узбеки и туркмены; из первых можно назвать
преимущественно только жителей хивинского ханства, которые лишь в случае
враждебных отношений их с туркменами попадают к границам Ирана. Бухарцы же с
начала нынешнего столетия не подходили к Ирану; а с Кокандом они почти никогда,
так сказать, не приходили в непосредственное соприкосновение. Из туркменских
племен разбойничьими набегами в настоящее время занимаются преимущественно текки
и иомуты — первые в Хорассане; Герате, Систане и даже вдоль западных границ
Афганистана, а последние — на Каспийском мор и на южном его прибрежии. За ними
следуют салоры и сарики, уже слабее числом и силою, нападающие редко, но за то
отличающиеся свирепством. Племенам алиели и кара только изредка удается
захватить какой-нибудь караван индусов или таджиков, а иногда и афганцев, и то
только на пути их в Бухару; чаудорам, между нижним течением Оксуса и Каспийским
морем, почти не осталось поля действия с тех пор, как русских стало трудно
продавать и не так-то легко уже брать в плен. Среднеазиатские невольники,
поэтому, по своей национальности большею частью персияне шииты из вышеупомянутых
провинций; есть между ними и жители всех остальных частей Ирана, попадающиеся в
плен на войне или на дороге в Мешхед, куда они ходят на поклонение святыням. За
шиитами следуют персияне-сунниты из Хафа и Герата — их хватают большею частью на
полях или во время сбора фисташек. Джемшиды и хезары попадаются редко, и то
вследствие взаимных раздоров. Еще менее невольников афганцев и индусов. Арабы и
турки, не смотря на высокое уважение к ним, продаются тоже; теперь их, насколько
я знаю, есть человек от четырех до шести. Свободными от цепей рабства остаются
одни только жиды, которых кочевники боятся, как волшебников, а туркестанцы не
покупают вследствие сильного отвращения к ним. Трудно сказать, сколько
добывается ежегодно невольников, ибо это зависит от положения дел в Иране; точно
также трудно определить, хотя приблизительно, цифру всех невольников, живущих в
настоящее время в Туркестане. Так как не всякий, попавшийся в руки туркменов,
продается в рабство в ханства, то, судя по состоянию богатств в Иране, можно
положить, что треть невольников, из Мазендрана и с морских берегов, выкупаются
на свободу. Это особенно приятно кочевникам, ибо, во-первых, они в таком случае
меньше тратятся на содержание невольников, а во вторых не подвергаются риску на
рынке, так как, в случае, если добыча его имеет какой-нибудь порок, ее никто не
покупает. Но такое, отношение выкупаемых из плена к общему числу невольников не
везде одинаково. Большею частью попадаются люди бедные — пастухи и пахари, менее
других защищенные от набега и редко могущие выкупиться. Поэтому, из жителей
сравнительно беднейших провинций, например Хорассана, Сигистана, как я слышал
это от маклеров, поседевших в торговле невольниками, выкупается одна десятая
доля, а остальные девять десятых отправляются туркменами, как товар, на рынки.
Для себя туркмен оставляет невольника, если он, во-первых, стар или увечен,
впрочем не на столько, чтобы не мог зарабатывать своего содержания — иначе его
безмилосердно убивают; во вторых, если он грудной ребенок — тогда его
воспитывают как туркмена и он обыкновенно делается самым ярым разбойником; в
третьих, если на столько приглянется черноволосая дочь Ирана, что не захочется с
ней расстаться — последнее бывает, впрочем, очень редко: обыкновенно с цветков,
доставляемых из Ирана ко дворам Хивы и Бухары, роса бывает уже отрясена рукою
туркмена, не отличающегося качествами, которыми славятся черкесские торговцы
гуриями. Таким образом, в степях остаются только те персияне, которых участь и
дома была бы не лучше, или злодеи, избежавшие казни; последние обращаются к
старому ремеслу — грабят и убивают заодно с кочевниками. Обыкновенно туркмены
держат у себя невольников дня два, три, и затем отдают их маклерам, от которых
еще заранее получают в виде задатков деньги или съестные припасы. Бессовестные
ростовщики эти выжимают уже все, что только могут из этого гнусного торга, так
как сами грабители, вопреки общему характеру кочевников, большею частью
беспутные люди, все проматывающие и проигрывающие. Маклеры бывают двух родов:
во- первых, туркмены, служащие, так сказать, посредниками между жителями степей
и жителя ми ханств; они ждут, пока наберется 30 — 50 невольников и тогда
отправляются караваном в Бухару или Хиву, а до отправления, чтоб уменьшить
расход на содержание невольников, отдают их в поденную работу, но за
поручительством на случай порчи своего товара. Во-вторых, маклерствуют еще
сунниты, живущие на границах Персии, играющие весьма двусмысленную роль: с одной
стороны они служат персиянам посредниками — разыскивают похищенных в пустыне или
в Туркестане, а с другой стороны они отличные шпионы для разбойников, извещают
их о состоянии деревень, о выступлении и состав караванов. Многие, особенно из
живущих на восточных границах Ирана, имеют целые депо невольников в Герате,
Маймене, Бухаре. Раз в год они отправляются с грузом несчастных на продажу, а на
возвратном пути берут с собою толпы освободившихся невольников или выкупленных
при их посредстве. С семейства выкупленного они берут втрое больше
действительной выкупной платы, толкуют ему о том, как трудно было отыскать
пленника и сколько стоило хлопот, чтоб выкупить его, между тем как отлично знают
место, где находился несчастный, которого они, быть может, даже сами туда
спровадили и с по мощью своих многочисленных агентов давно уже уговорились в цен
выкупа. Поистине интересно видеть, как эти мошенники искусно умеют притворяться:
отправляясь в Бухару, в качестве торговцев невольниками, они изображают из себя
самых отчаянных бухарцев, ругают еретиков шиитов и радуются постигающей персиян
достойной их участи; на возвратном же пути в Иран, они разыгрывая роль
освободителей, порицают жестокость и тиранство бухарцев, проливают горькие слезы
о несчастной участи персиян — одним словом, превращаются в мягкосердечнейших
людей. В караване, с которым я шел из Бухары в Герат, было два таких маклера,
носивших титул ходжа (потомков пророка), которым они не мало гордились.
Беспримерна была их нежность и заботливость в обращении с невольниками,
возвращавшимися под их надзором на родину, а между тем эти же самые люди
несколько месяцев тому назад, как рассказывали мне начальник нашего каравана,
отвели в рабство целую толпу несчастных. В хивинском и бухарском ханствах
торговцы невольниками, называемые догмафурум, составляют правильный цех; к ним
принадлежит больше сартов таджиков, освободившихся из неволи персиян, чем
узбеков или людей из остальных турецко-татарских племен. Самая торговля
производится или в особых магазинах; или, вдали от городов, на открытых базарах,
куда невольников отправляют, разумеется; за несколько дней до торга.
Значительнейшие депо находятся в хивинском ханстве, преимущественно в самой
Хиве, потом в Хезареспе, Газавате, Гёрлен и Кёне. Кроме этого, каждое
значительное место имеет своего розничного торговца, который частью находится в
сношениях с оптовым торговцем или берет товар на комиссию. В Бухаре первое место
по этой торговле занимает Еаракёль, потом сама столица, за нею Карши и
Дшихардшуй. Замечательно, что к востоку от Самарканда отвратительная торговля
эта все более и более слабеет, так что в кокандском ханств нет ни одного
крупного торговца и большая часть тамошних невольников покупается в бухарских
владениях. В степях, лежащих на север от ханств, благодаря русскому владычеству
встречается мало невольников, и то только в вид предметов роскоши у богатых
беев. Цена невольников на среднеазиатских рынках зависит, конечно, как и цена
всякого другого товара, от количества их на рынке: в мирное время их бывает
меньше, а во время войны больше, но есть все-таки и постоянная цена, которая в
на стоящее время может быть обозначена так:
Невольники
|
|
В Хиве |
В Бухаре |
|
От 10-15 лет
|
40 тилл |
35 тилл |
|
15-25 лет |
60 |
45—50 |
|
25-40 лет |
70—80 |
80 |
.
Невольницы
|
|
В Хиве |
В Бухаре |
|
От 10-15 лет особенно
красивые |
70—80 тил |
70—80 тил |
|
15-25 лет |
50—60 |
50—60 |
|
25-40 лет |
40 |
40 |
Цена невольников мужчин
одинакового возраста зависит от, физических их свойств и от национальности. Турки
северного Ирана предпочитаются всем остальными, так как, во первых, они легче
обучаются родственному для них среднеазиатско-турецкому диалекту, а, во вторых,
они более крепкого телосложения и привычнее к работе, чем жители остальных
частей Ирана. Дешевле всех ценятся афганцы, потому что они плохие работники и
кроме того опасны по своей мстительности и горячности характера, что для
жестокого хозяина имеет часто печальные последствия. Что касается до невольниц,
то надо сказать, что они недолго пользуются тем положением, которое занимают
черкешенки и грузинки в Турции и Персии: скорее же участь их можно сравнить
разве с участью негритянок в последних странах. Причина этого легко понятна:
во-первых, дочери Туркестана соответствуют более обитательниц Ирана понятиям
узбеков и таджиков об изящном — последним за их оливковый цвет лица и большой
нос они никогда не присудят яблока Париса в ущерб своих белых, полнолицых дев.
Во вторых, многоженство у среднеазиатов, по причине их бедности, встречается
реже, чем у западных магометан. Кроме того, узбек слишком аристократ, чтоб
разделить стол и ложе с невольницею, купленною за деньги, а если это иногда и
случается в среде высших сановников Бухары, то они берут только таких невольниц,
которые приобретены были в детстве и получили туркестанское воспитание; в
среднем же классе подобные явления весьма редки. Да и жениться то здесь легче,
чем на остальном магометанском востоке. Вообще невольницы держатся тут, как
предметы роскоши в гареме у богатых, или приобретаются для услуг. Относительно
невольников нельзя того же сказать. В течение нескольких столетий установившееся
снабжение рабочими людьми из туркестанских степей стало так необходимо
земледельцам узбекам, что без него они едва ли могли бы добывать себе насущный
хлеб. Это ясно видно из того, что цены на хлеб зависят отчасти от уровня воды в
Оксусе, а главным образом — от большего или меньшего числа невольников,
купленных в течение года. Кроме земледелия, невольники употребляются еще при
скотоводстве, и чем обширнее владения какого-нибудь узбекского господина, тем
более ему нужно невольников. В такой стране, как Туркестан, где преобладает
воинственный элемент, где всякий свободнорожденный, вследствие ли прирождённого
влечения или политической необходимости, берется за меч, а не за плуг, там руки,
занятые войной, должны быть заменяемы другими, рабочими руками. Это вполне
подтверждается тем обстоятельством, что в странах, жители которых в большинстве
отдаются войне и разбоям, бывает и число невольников самое большое. Из трех
ханств в этом отношении первое место занимает Хива, за нею идет Бухара, а также
Коканд. В хивинском ханств большинство населения — узбеки; по милости окружающих
его со всех сторон кочевников, в нем ведется постоянная война, а потому и
анархия там обычнее, чем в остальных двух родственных ему ханствах. В бухарском
ханств население узбекское с сильною примесью мирных таджиков, положение дел в
нем более упрочилось вследствие издревле лучше устроенного правительства; и
наконец в Коканде, где тоже много таджиков, вследствие известной трусости его
жителей внутренние войны редки и гораздо менее опустошительны. Кроме земледелия
и скотоводства, небольшая часть невольников употребляется для услужения в домах
чиновников (сипаев) и правителя, но для этого берутся только те, которые в
раннем детств попали в неволю; они получают совершенно узбекское воспитание и,
кроме позорного названия кул (раб), ни в чем почти не разделяют тяжкой участи
своих несчастных собратий. Благодаря природным способностям, иранцы эти легко
оттирают соперников узбеков и часто, подобно черкесским невольникам в Турции,
занимают видные места не только на частной службе у вельмож, но и в самом
правительстве: в обоих ханствах мы видим много вельмож, бывших некогда
невольниками, а теперь управляющих целыми областями. В Бухаре, где преобладает
персидский элемент, а узбекская аристократия не пользуется большим значением,
правители часто берут невольниц в жены; так, мать нынешнего эмира и одна из жен
его, об иранского происхождения. При покупке невольника обращают, поэтому,
прежде всего внимание на здоровое, крепкое телосложение, и цена увеличивается,
если при этом оказываются еще хорошие способности. Продавец обыкновенно ручается
на три дня за могущие в это время оказаться скрытые физические недостатки
невольника. Покупающие принимают эту предосторожность против частых мошенничеств
маклеров, хотя при покупке раба пробуют его, как какое-нибудь вьючное животное:
испытывают силу его рук, груди, спины и голоса. У персидских невольников
особенно трудно бывает узнать возраст: так как в Иране есть обычай красить
бороды, то и туркмены красят их своим невольникам, чтобы скрыть седые волосы,
если они есть, так что часто разницу в двадцать, а иногда и в тридцать лет
бывает невозможно открыть; легко может случиться, что молодой на вид, с черною,
как смоль бородою невольник, побыв несколько дней у своего нового хозяина, может
превратиться вдруг в старика. Обмануть при продаже очень легко, потому что
несчастный раб, запуганный жестоким обращением своего туркменского хозяина, не
смеет сказать ни слова против него. Особенно это важно при продаже суннитов,
которые, как единоверцы среднеазиатов, не могут по постановлениям религии
подлежать продаже, если не отрекутся сами от своей веры. Среднеазиат, покупая
афганца или иранца, очень хорошо знает, что они сунниты, и знает также, что их
принудили отречься от веры: но, не смотря на это, он, по гнуснейшему лицемерию
своему,. покупку их не считает грехом. Я сам видел в Хиве и Бухаре суннитских
невольников у мулл, известных своею ученостью и благочестием, и, когда я укорял
их в этом великом грехе, то получал в ответ: «когда я его покупал, он был
шиитом, а если теперь он сделался суннитом, то надо приписать это единственно
одной только святости туркестанской земли». Таким образом религия обманывается
религией же. Если мы теперь, после всего сказанного о торговле невольниками,
обратимся к положению невольников в рабстве, то окажется, что самым тяжелым
временем во всей их бедственной жизни бывает время их нахождения в руках
туркменов и маклеров, которые забивают их всеми средствами. Иранцу, по праву
гордящемуся своей цивилизацией, особенно тягостно переносить обращение с ним
как с диким животным, от дикого, варвара туранца, имя которого он на своей
родин произносит не иначе, как с презрением. Первобытные грубые туркестанские
нравы всегда будут заставлять нравственно страдать персиянина, с детства
привыкшего к утонченному, вежливому обращению, к изысканному, цветистому
разговору и вообще к лучшим социальным отношениям, вырабатывавшемся в течение
целых тысячелетий. Физические бедствия далеко не так тяжелы. Большинство
невольников, занятые возделыванием земли, своим хорошим поведением приобретают
любовь и доверие своих хозяев. Если в течение года невольник ни в чем не
провинится, то на него вскоре начинают смотреть, как на члена семейства; многие,
по истечении определенного времени, получают даже ежемесячное жалованье или
известную долю продуктов вверенного им поля или стада. Атак как иранцы вообще
трудолюбивее и бережливее своих туранских соседей, то они успевают в удивительно
короткое время собрать себе небольшой капиталец; он большею частью приберегается
для выкупа, на который, по истечении семи лет, каждый невольник получает право.
Впрочем иногда срок этот сокращается за усердную службу или по особенному
благоволению хозяина, и рабу дарится азад (вольная), точно также, как мы иногда
награждаем чем-нибудь верного нашего слугу. Вольная эта свидетельствуется кадием
и светскими властями, и получивший ее делается тотчас же полным господином в
своем существовании и в своих действиях. Освобождение раба всегда сопровождается
известным празднеством: убивают несколько штук овец, созывают гостей,
новоотпущенный обнимается со всеми мужчинами семьи своего бывшего господина,
который, приглашая его сесть с собою на одном войлоке, тем возвещает об его
независимости. У киргизов хозяин при этом привязывает белую кость к поясу раба в
знак того, что он из касты чернокостных (подвластных) вступил в разряд
белокостных (дворянства или господ).
Так бывает, если невольник добронравен и покорен; в противном же случае
узбекская грубость и варварство проявляются во всей своей силе. Волос станет
дыбом, если просмотреть список наказании, употребляемых для обуздания
непокорного.
Хозяин по закону вполне
властен над жизнью и смертью выкупленного им раба; но редко убивает он его,
чтобы не понести убытка, однако муки, претерпеваемые несчастною жертвою, ужасней
самой смерти.
Иных держат целые года в
голой пустыне, давая им весьма скудные запасы хлеба и воды: других, за несколько
дней до истечения семилетнего срока, продают снова, но уже не в ханствах, где
дурная об них слава мешает продаже. Обыкновенно таким товаром наделяют неопытных
киргизов.
Попав из города в степь,
персиянин уже редко возвращается на родину, хотя бы и удалось ему добиться
свободы.
Меня поражало, что из
огромного числа персидских невольников по получении свободы едва половина
возвращается на родину, и то домой большей частью идут лишь те, кого или влечет
к себе покинутая семья или особая тоска по родине; Кто же проживет больше
двенадцати лет в Туркестане, тот редко меняет его на Иран. Попадают в плен
большею частью, как уже было выше замечено, люди бедные; найдя себе в Туркестане
верный промысл, или сколотив маленькое состояньице, они в большинстве случаев
теряют всякую охоту возвращаться в Иран, где жизнь гораздо тяжелее вследствие
чрезмерной работы, где жизненные средства
гораздо дороже,
а роскошь и великолепие состоятельных классов зарождают в груди бедняка так
много желаний и требований. Это обстоятельство тем более удивительно, что
невольники, сделавшись свободными, хотя бы даже они обладали величайшими
богатствами или занимали высшие должности, постоянно должны испытывать на себе
позор названия кул (невольник). Кул, несмотря на самое блестящее положение,
никогда не может получить руки дочери свободного узбека, который, как бы беден
ни был, никогда не захочет вступить с ним в родство; я мог бы привести здесь
несколько примеров, что узбеки, даже по приказанию хана, не соглашались отдавать
своих дочерей за кулов и готовы были лучше навлечь на себя гнев повелителя, чем
назвать своим зятем бывшего раба. Даже ханезады (дети раба), которых уже нельзя
продавать (Продажа ханезада считается делом позорным, и всякий, кто продаст его,
обзывается разбойником или вором) могут жениться только на дочерях других
сделавшихся свободными рабов, и лишь в четвертом колене позор слова кул немного
ослабевает, но все еще не совсем забывается. В Средней Азии, где храбрость
считается высшею добродетелью, на личность раба смотрят, как на
non
phus
ultra трусости, как на человека, который из особенной привязанности к жизни
допустил заключить себя в оковы — и это-то ему не прощается никогда. К такому
взгляду присоединяется еще безграничное аристократическое чувство татар, как
кочевников, так и оседлых, которые в этом отношении превосходят самых ярых
ториев и кичливых маркизов Сен Жерменского предместья. Это чувство руководит
отношениям не только к чужеземному иранцу, но и к туземному таджику, бывшему
некогда обладателем этих стран.
Для освободившегося раба одно лишь нравственное унижение остается следом его
прежнего бедственного положения. Гражданские же его права никем не нарушаются, и
так как житель востока легче всякого другого делается рабом привычки, то легко
объяснить, почему многие из получивших свободу персов поселяются в Туркестане,
прежде так ими презираемом и так страшившем их; они чувствуют себя совершенно
счастливыми в этой чуждой стран и по временам только посещают своих
родственников и шиитских святых Ирана. К сожалению, именно это-то материальное
благосостояние невольников и выставляют нам на вид среднеазиаты и другие
восточные народы, когда мы высказываем им наше отвращение н позорной торговле
людьми. В Туркестане, а часто и в Турции, говорят: «сын или дочь дикого черкеса
были в отечеств бедными людьми, едва могли питаться хлебом в своих свободных
горах; у нас же сыновья становятся богатыми чиновниками и пашами, а дочери часто
даже принцессами, в силу своего могущественного влияния управляющими всею
страною». Нам указывают на мягкое обращение с невольниками в домах знатных особ,
где не делается никакого различия между ними и другими членами семейства; но при
этом забывают, что это только исключения и что такая счастливая доля зависит
обыкновенно от большей или меньшей физической красоты купленного. А что
достается тем, которые, одаренные менее счастливой наружностью, не в состоянии
приобрести расположения своего господина! Что бывает с большинством тех
несчастных, которые, исполняя самые тяжкие работы, подвергаются постоянному
гнету и гневу своевольных своих властителей? Это, разумеется, не принимается во
внимание, равно как и самый акт продажи, который так ужасен. Но обитатели
берегов Босфора или Оксуса редко могут представить себе весь ужас того момента,
когда несчастного невольника вырывают из круга его близких, из его обычной
среды. Сколько сирот, сколько вдов, сколько беспомощных дряхлых стариков
остаются покинутыми и рыдают об уведённых в тяжкую неволю? Неизмеримо число и
ещё неизмеримее бедственное положение всех тех стад, деревень и стран, которые
подпадают бичу невольничества. Путешествующий по этим странам на каждом шагу
встречает печальные следы опустошения, и если бы он даже был убежден в блестящей
будущности некоторых из невольников, то все-таки неизбежно придет к заключению,
что невольничество самое гнусное дело, какое когда либо позорило руки человека,
и что прекращение его есть первая и священнейшая обязанность человечных
стремлений нашей европейской цивилизации. Прекратить торговлю невольниками в
Средней Азии, впрочем, гораздо легче, чем кажется. Зло это коренится не столько
среди туркменов, сколько в городских потребителях невольников. Кочевники всех
пустынь всегда похищали и похищают людей только лишь тогда, когда у них есть в
виду оседлые жители, у которых можно сбыть свой товар. Как бедуины никогда
особенно не занимались похищением людей, потому что в пограничных городах никто
не покупал их добычу вследствие религиозного запрещения, так и туркмены скоро
оставят это занятие, если только продажа персов, афганцев и проч. в ханствах
обвялена будет запрещенною. Это всего лучше доказывается на дшемшидах, фируцкухи
и хезарах, которым туркмены затрудняют переправу невольников в Бухару: так как,
с другой стороны, они не смогут продавать невольников в афганском Герате, то по
неволе должны отказываться от своих хищнических наклонностей, в которых они не
уступят туркменам, или присоединяться к последним, что, кроме большой невыгоды,
им ничего не приносит. Султан Мурад-Мирза, этот пресвященный правитель Хорасана,
выразил мне однажды свое удивление, что Англия, тратящая столько тысяч для
воспрепятствования торговли невольниками в африканских водах, совершенно
равнодушно смотрит на то, как торговля эта разоряет и опустошает Персию, древняя
цивилизация которой принесла пользу даже западу. Так точно и я не могу не
удивляться тому равнодушию, которое до сих пор высказывала к этому плачевному
положению дел в Азии Европа, а в особенности то государство, которого флаг всюду
на востоке возвещает начало новой счастливой эры. Пусть сентиментальные
журналисты своей политической болтовней защищают стремление к независимости,
замечаемое ими у многих грубых азиатских народов, которые, однако, под
благородным знаменем свободы разумеют только анархию, хищничество и убийство.
Бремя мнений и взглядов, установленных Руссо прошло, и мы можем с полною
уверенностью сказать, что Европа на востоке — является ли она в мирном одеянии
апостола или же во всем своем грозном всеоружии — вносит повсюду только одно
благословение и засевает семена лучшей жизни, ибо чем более распространяется
света от запада к востоку, тем скорее сгинут злоупотребления древнего мира и тем
счастливее будут там наши собратья.
XIV.
Производительность трех
ханств
Всякий раз, как только зайдет
у нас речь о завоеваниях России в Средней Азии, говорят обыкновенное, что
петербургский кабинет, преследуя честолюбивые свои замыслы на счёт Гиндукуша,
стоившие ему стольких издержек и трудов, наверное не удовольствуется завоеванием
одних только береговых местностей по Оксусу и Яксарту. Бесспорно, Россия
действительно не остановится на покорении трех ханств, но потому-то нам и
следует серьёзно взглянуть на результат этих завоеваний и познакомиться с
богатствами туркестанских степных стран, с тем именно, что и сколько чего они
производят или сколько они, с другой стороны, могли бы производить при
удовлетворительной и разумной разработке богатств их природы. Одно уже название
«степные страны» способствует много тому, что населенная часть Туркестана
считается вообще бедною производительными силами; к этому, вдобавок,
присоединяется еще бедность в высшей степени первобытный и простой образ жизни
их обитателей; поэтому нечему и удивляться, что отдаленность от нас этих стран,
а, следовательно и совершенное незнание местных условий породили и
распространили у нас на их счет так много ложных понятий. Туземные, а также
веточные путешественники и географы, как, например, Идризи, Ибн-Гаукал,
Ебульфеда и ученый князь Бабер вдались в противоположную крайность: все они
представляют нам Туркестан одною из самых богатых стран земного шара и отдают в
этом отношении преимущество одной только Индии.
Такой взгляд был некогда
(Согдианскую равнину или церевшанскую долину, лежащую между Бухарой и
Самаркандом, называют земным раем; а Гофиц, говоря о красот своей возлюбленной,
замечает, что с нею могут сравниться в этом отношения только города: Бухара и
Самарканд.) господствующим в западной Азии и я имел случай встретить его там
даже и теперь в некоторых местностях. Меня особенно поражало, то, что иногда
приходилось даже слышать какого-нибудь эгоиста иранца, который с восторгом
отзывался о богатствах ненавистного ему Туркестана. Я, со своей стороны,
постараюсь быть беспристрастным в этом отношении, но, на первых же порах, должен
заметить, что богатством и разнообразием местных произведений Туркестан намного
превосходит известные нам страны европейской и азиатской Турции, Афганистан и
Персию; да и, вообще, в целой Европе, столь благословенной и цветущей в других
отношениях, трудно найди страну, которая могла бы сравняться с степною
местностью Туркестана. Разнообразие его. производительности главным образом
объясняется теми климатическими условиями, которыми вообще наслаждаются жители
берегов Оксуса и Яксарта. Климат там не суров, но его нельзя назвать и
умеренным, и хотя вообще он походить на климат средней Европы, но следует,
однако, заметить, что зима у берегов Аральского озера и в гористых местностях
Коканда гораздо суровее; лето же в южных его странах, особенно в смежных с
огромными степными пространствами, бывает часто почти тропическое и вообще много
теплее, чем в средней Европе. Река Оксус от Керки и Тшардшу до устья замерзает
почти каждую зиму; в Кунграте, Ходша-Или и на правом берегу Оксуса, где живут
каракалпаки, зима обыкновенно стоит очень суровая, снег лежит часто по нескольку
недель и бурные северные ветры (аямубшиз) составляют не редкость. Понятно, что
при таких условиях об умеренности климата не может быть и речи; но зато в Хиве,
когда я там был, уже в начал июня стояли нестерпимые летние жары, а в
окрестностях Керки и Белха зной в август месяце, даже в тени, был так удушлив,
как едва-ли он когда-нибудь бывает в действительно тропических странах. Такие
климатические противоположности видимо отражаются на растительности, даже на
небольших пространствах. Так, например, хлопок, растущий в Енги-Юргендше,
доброкачественнее чем в северных местностях, а шелк, добываемый в Гесареспе,
считается лучшем во всем хивинском ханстве. Лучший рис растет в Гёрлене; в Хиве
же, лежащей несколько южнее, произрастают отличнейшие фрукты. — В таких же
условиях находятся Бухара и Коканд и, только взвесив эти особенности, мы поймем,
почему каждое из трех ханств,. занимая сравнительно такое незначительное
пространство, заключает в себе такую массу самых разнородных произведений —
таких, какие можно встретить только на больших территориях обнимающих собою
несколько климатов (Лучшим подтверждением всего сказанного может служить время
жатвы, которое бывает весьма различно в разных местностях Туркестапа. Так,
например, в Белхе и в окрестностях Андшуя жатва начинается в июне месяце, в
Гесареспе, Хиве и Каракеле только в конце июля; в степных странах в июле; в
Кунграте же и на север Коканда только в август месяце.)
Что касается до плодородия
почвы, то, по мнению туземцев, его следует приписать, с одной стороны,
плодотворному влиянию рек, орошающих оазисы, а, с другой, также и самому
качеству почвы. Из рек особенно важное значение имеет Оксус, который, по
оплодотворяющему своему свойству, может быть уподоблен Нилу, имея то
преимущество перед последним, что вода его много вкуснее. За ним идет Церевшан,
которого одно название «рассеватель золота» достаточно указывает на блага,
разливаемый им в прибрежных местностях. Не менее замечательны в этом отношении и
маленькие речки, например: Шери-Зебс и рукава Яксарта.
Если ко всему этому прибавить
еще и то, что орошение полей производится довольно заботливо и что оно здесь
гораздо удобнее, чем в прочих странах западной Азии, то это богатство почвы, как
оно ни велико, никому не покажется удивительным. В моем «путешествии по Средней
Азии» я уже имел случай заметить, что это орошение полей совершается или путем
естественных каналов. называемых арнами и образуемых весьма часто неправильным
течением Оксуса, или посредством так называемых япсов, вырытых небольших
каналов, которые огибают здесь каждую деревню и каждое поселение пли пересекают
их в разных направлениях. В каждом значительном селении есть непременно особый
чиновник, мираб, наблюдающий за водопроводами и каждою весною заставляющий
очищать их от песчаных заносов. Для предотвращения гибельных последствий от
наводнений, столь обыкновенных при вскрытии рек, главные арны, имеющие шлюзы, на
зиму обыкновенно закрываются. Самая чистка каналов происходит в апреле месяце,
при чем главное внимание обращается на их углубление и на суживание берегов.
Вынутый песок обыкновенно сваливается по обоим берегам канала, который таким
образом представляет длинную гряду шанцев, своею тенью защищающих драгоценную
влагу от палящих лучей летнего солнца. Впрочем, эти обнесенные окопами каналы,
как они ни полезны для земледелия вообще, представляют, однако, весьма
значительные затруднении для передвижений по стране. В этом отношении более
дорогие персидские карицы, (подземные водопроводы) много целесообразнее, так как
и вода в них гораздо чище и прохладнее. В Средней Азии япсы и арны представляют
страшные препятствия для путешествующих: мосты там или весьма плохи, или их и
вовсе нет, поэтому можно себе представить, сколько трудов и потери времени несет
караван с его страшно навьюченными верблюдами, когда ему приходится в один день
переправиться через 10 или 15 таких грязных каналов. Водопроводы эти весьма
много вредят, с другой стороны, и самым рекам, отводя от них воду, что всего
лучше доказывает нам Оксус. Нет сомнения, что река эта впадала некогда в
Каспийское море, а теперь она вливается в Аральское озеро (Бёрнс («Travels иа
Bociiara», И, 188) сомневается вообще, чтобы в древности Оксус протекал по
другому направлению, и основывается в этом случае на словах туземцев. Никому не
покажется удивительным, что мне привелось от них слышать совершенно противное; у
туркменов даже существует много басен, имеющих связь с прежним течением Оксуса.
) и такую перемену в её
течении, если не совершенно, то, по крайней мере, большею частью можно приписать
именно этим каналам. Которое из трех ханств плодороднее, на самом дел решить
трудно, и особенно в настоящее время, потому что, кроме несчастного Конолли,
никто не в состояния представить нам общего образа всех тамошних почвенных
условий. Судя однако по тому, что мне самому привелось видеть во время моего
путешествия в Самарканд и что я слышал в Коканде от моих спутников, которые сами
были родом оттуда, я готовь отдать в этом случае преимущество хивинскому
ханству, особенно в отношении богатой его растительности. В нем, правда, меньше
обработанной земли, чем в прочих ханствах, но за то оно на много превосходить их
и обилием и качеством своих произведений; это ханство в одном только уступает
бухарскому — в разнообразии и превосходстве разводимых там овощей. В отношении
минерального богатства Бухаре без всякого сомнения принадлежит первое место;
скотоводство же, доведенное до большого совершенства, составляет исключительную
принадлежность кочевников. Земля, измеряемая здесь танабами (дословно — веревка
= 60квадратнымлоктям) подразделяется на: 1) мюкк, личную собственность, с
которой платится налог; 2) ханлик, земли, которые или разработаны самим
правительством или достались ему путем конфискации или завоеваня; с таких земель
оно обыкновенно получает третью часть из чистого дохода; 3) яримджи, земли,
принадлежащие школам, мечетям или другим подобным им учреждениям; с их
обыкновенно платится четвертая часть чистого дохода. Ханлики в каждом округ
находятся в заведывании особых чиновников, называемых мишюрюбами (Самое название
показывает, что чиновники эти нанимались из половины дохода с земли.) которые в
то же время собирают и поземельный налог; церковный же земли, как вообще и у
других исламистских народов, управляются мутевалисами. Что касается до качества
почвы вообще, то я должен заметить здесь, что лучшие из обкатываемых земель,
дают на один танаб 100 батманов (в батмане можно считать 40 фунтов), худшие же
земли ни в каком случае не меньше 60 батманов. Надо при этом принять во внимание
то, что обработка земли в этой местности не только чрезвычайно нетщательна, как
вообще и везде в Азии, но что она вообще находится в высшей степени первобытном
состоянии; поэтому всякий понимающий дело легко может составить себе понятие о
необыкновенной плодородности тамошней почвы. Определить положительно, сколько
обработанной или вообще плодородной земли во всех трех ханствах, в настоящее
время дело еще совершенно невозможное. Частые войны и всякие неурядицы
достаточно объясняют нам причину, почему там так много встречается развалин
некогда процветавших поселений; что же касается собственно до хивинского
ханства, то таких опустошенных и разорённых местностей там несравненно больше,
чем земли обработанной. За исключением весьма немногих произведений, которыми
ханства ведут торговлю, как между собою, так и с Россией, всех прочих за тем
продуктов производится вообще не более того, сколько нужно для домашнего
обихода; а между тем нет никакого сомнения, что все произведения могли бы быть и
лучшего качества, и гораздо разнообразнее, и добываться в больших размерах.
Простой обзор производительности этих трех ханств объяснит и подтвердит все выше
нами сказанное.
Растительное царство.
Между хлебными растениями,
разводимыми в туркестанских степных местностях, главную роль играют пшеница и
ячмень. Первой там четыре сорта: 1) Бухара-будайи (бухарская пшеница) считается
лучшею и имеет длинные и тоненькие красноватые зерна с зеленоватым кончиком. Из
этой пшеницы приготовляют самый лучший хлеб, которым особенно славится город
Бухара. Пшеница эта везде известна под именем ширмаи. 2) Токмак-баш
(клинообразная голова) с круглыми толстыми зернами, весьма питательна и изо всех
четырех сортов пшеницы всего более походит на нашу. Наилучшей доброты она
встречается преимущественно в Хиве. 3) Кара-сюллю (черноволосая) с тоненькими,
тёмно-коричневыми зернами; так как она не особенно отличается своим качеством,
то её поэтому и употребляют обыкновенно в корм для лошадей. 4) Яцлик (летний
плод) поспевает в весьма короткое время, необыкновенно легковесна и
употребляется в примеси с другими сортами. Ячмень в Средней Азии вообще, но так
хорош, как в Персии или Турции. Кроме обыкновенного, здесь разводится также
ячмень низшей доброты, называемый в Хиве каракалпак и идущий, как вообще на
востоке, в корм для лошадей. Что касается до цен, то сравнительно с прочими
местностями западной Азии, хлебные произведения в обыкновенное время здесь
необычайно дешевы. За хивинский батман лучшей пшеницы платят от 2 до 30 тенгов
(тенга = 75 сант.); ячмень же часто бывает дешевле и редко дороже 1 тенга. Рис
растет здесь в изобилии, но он много хуже гератского или превосходного
ширазского, известного под именем чампа или амбербуй (запах амбры). Всего более
он походит на египетский, называемый в Турции дамиетским рисом; но он мог бы
быть лучше этого последнего, если бы при обработке пользовался лучшим уходом.
Джюгери (holcus sorghum) разводится в большом количества во всех трех ханствах и
употребляется там в больших размерах, чем в какой либо другой азиатской
местности. В свежем, сыром своем виде он употребляется в пищу, в сухом же идет в
корм животным и преимущественно жеребятам, потому что он не так горячит, как
ячмень, и кроме того, вследствие богатого содержания сахарного начала,
несравненно питательнее последнего. Сорго, как одно, так и с примесью пшеницы,
служит для приготовления хлеба. Мекке-джюгери (турецкая пшеница) никогда не
бывает высока и встречается двух сортов: один сорт её имеет желтоватые, другой
совершенно красные маленькие зерна. Ее никогда не сушат и обыкновенно или едят в
молочном состоянии или употребляют в корм для скота. Тари (крупа) бывает также
разных сортов и составляет весьма употребительную пищу в Средней Азии, почему п
разводится там в больших размерах. Из стручковых плодов, кроме известных и у
нас, как напр., гороха (буртшак), бобов (луби), чечевицы (ясмук) и т. п., тут
растет еще много других подобных им растений, вовсе нам не известных, как,
например, конак, у которого зерна меньше, но толще, а стебли ниже, чем у нашей
чечевицы; маш, несколько побольше просо, коричневатого цвета; кроме того есть
много других видов, имеющих интерес лишь для специалистов. Из масленичных
растений я должен прежде всего упомянуть о Еюнджи-сезаме, которое растет здесь
превосходно и дает в изобилии масло, годное, как в пищу, так и для освещения.
Кроме того, я должен сказать еще о зигире, растении вроде просо, у которого на
стебле сидит несколько яблоко образных плодов с желтыми зернышками внутри,
величиною с маковые семена. Добываемое из него масло идет для кушаний и на
разного рода печения. Далее, джигит, семена хлопчатника, которого масло не
употребляется, впрочем, в пищу. Кендер (пенька), из которого выделывают плохое
полотно, а также получается наркотическое вещество бенг. Наконец идау, низкий
кустарник, из маленьких зеленоватых зерен которого добывается горькое, пахучее
масло, составляющее превосходное врачебное средство для раненых животных,
особенно верблюдов.
Между красильными растениями
замечательно руян или бояк (крап), который растет во всех трех ханствах и в
значительных размерах вывозится в Россию. В 1833 году растение это еще очень
мало требовалось в России, а в 1860 году его вывезли уже туда до 24,523 пудов .
Исбарак или барак, желтые цветочки которого, будучи высушены и, растерты в
порошок, дают превосходную желтую краску. Гёртшук, род клевера, с маленькими
красными цветочками; из листьев его добывается отличная черная краска. Буцгундш,
в роде чернильных орешков, растет только в южном Маймене и в Бадгицких горах (на
севере от Герата);из него получают лучшую красную краску, которая даже на месте
ценится весьма дорого. Я должен также упомянуть здесь, хотя, правда, и не совсем
у места, о терендшебине, смолянистом и сладком веществе, растущем на терновнике,
известном под именем хари-шутур (верблюжий терновник). Терендшебин появляется в
конце лета, совершенно внезапно и неожиданно ночью; его необходимо собирать рано
утром, когда еще свежо в воздухе. Это клейкое, сероватое вещество, отличается
сладким своим вкусом и может даже в сыром виде быть употребляемо в пищу. В
Средней Азии из него приготовляют сироп, в Персии же оно находит себе
употребление на сахарных заводах Мешхеда и Иезида. Что касается до овощей, то
все виды их, за исключением одних южных растений, растут в ханствах в большом
изобилии и отличаются превосходным качеством. Они составляют весьма значительную
статью вывоза в Россию и даже в богатую Индию. Житель Средней Азин немало
гордится этим богатством овощей, потому что в Азии прелесть и ценность земли
определяется вообще качеством воды, воздуха и произрастающих на ней плодов. В
этом отношении каждое из поименованных трех ханств имеет свою специальность: так
Хива, например, славится своими превосходными дынями и яблоками, а Бухара
виноградом и персиками. Многие страны Персии и Турции, быть может, и берут верх
над последними по отношению к своим фруктам, но за то таких дынь, как в Хиве, вы
не найдете не только в Азии, но даже и в целом свете. О вкусности тамошних дынь
европеец не может себе составить и понятия. Необыкновенно сладкие и ароматичные,
они просто тают во рту и особенно как-то действуют освежительное; если есть их с
хлебом, то он представляют лучшую пищу, какую только дает нам природа. Одна
только знаменитая дыня Насрабади, близ Испагани, напоминает, хотя весьма слабо,
этот единственный в своем род плод Средней Азии. Сортов дынь весьма много; из
них следующие известны под именем летних: 1) цамтше, поспевает раньше других,
имеет круглую Форму, желтый цвет и тонкую кожу; и) гёрбель, зелёного цвета и с
белым мясом; 3) бабашейхи, маленькая, круглая и с белым мясом; 4) кёктше: 5)
шёрин-петшек, необыкновенно мягкая и сладкая, круглой формы; 6) шекерпаре: 7)
чптайи; 8) кёкнабат, 9) акнабат и 10) бегуаде (С радостью замечу здесь, что из
семян, вывезенных мною из средней Азии, некоторые сорта удались в Венгрии
превосходно. По всей вероятности, это будут лучшие дыни, какие только известны у
нас в Европе.)
Зимние дыни поспевают только
около первых чисел октября, но выдерживают и всю зиму и бывают всего вкуснее в
феврале месяце. Они следующих сортов: 1) карагулаби, 2) кицильгулаби, 3) бешек,
4) пайандеки, 5) саксаул-кавуну. Все он преимущественно вывозятся в Россию.
Превосходством своим здешние дыни обязаны всего более влиянию Оксуса, потому что
лучшие сорта их родятся именно только на берегах этой реки. Бухарские дыни
посредственнее и качеством уступают даже кокандским.
Что касается до винограда, то г. Ханыков в своем интересном сочинении «Бухара,
её эмир и народ» насчитывает 10 сортов, найденных им в Бухаре. Я, со своей
стороны, видел в Хиве только следующие сорта: 1) гусеини, с продолговатыми
зернышками и тоненькой кожицей, очень сладкий и выдерживает всю зиму; 2) меске,
с большими круглыми зернышками; 3) султани; 4) халиде, выспевает ранее всех
других сортов; 5) чиборгани; 6) таифи, 7) ширмани и 8) зайеке. Все эти сорта
растут на равнинах и так как вина вообще весьма мало производится в Бухаре, то
этот прекрасный плод и идет здесь частью на приготовление шире (сиропов), частиш
же потребляется в пищу в сушеном виде. Яблоки известны здесь четырех сортов и
лучшие из них, гезаресииския, достойно могут соперничать с лучшими
произведениями европейского садоводства. Здешняя шелковичная ягода и больше и
вкуснее нашей н этому именно превосходству её можно, пожалуй, приписать то, что
среднеазиатский шёлк лучше итальянского и французского и что уже несколько лет
существующая у нас болезнь шелковичных червей до сих пор неизвестна в Средней
Азии. Что касается вообще до шелководства, то оно перешло сюда из китайской
Татарии и главным образом из Хотена, куда оно, по справедливому замечанию г.
Рено еще в I веке нашего летосчисления было занесено из внутреннего Китая. По
свидетельству одной рукописи касающейся древней истории Бухары, шелководство
было известно там еще до принятия этою страною ислама; но я замечу при этом, что
разведение шелковицы, размотка и краска шелка во всех трех ханствах находятся в
более первобытном состоянии, чем в самом Китае, где с развитием промышленности
вообще введены уже кое-какие перемены и улучшения в способах производства, тогда
как здесь все до сих пор остается по старому. Шелку-сырцу всего более
производится в Бухаре и притом не в одной только её столиц Самарканде, но и у
лебаб-туркменов. Много добывается шелку и в Коканде и именно в окрестностях
Мерголана и Наменгана. Хива производит его весьма мало, и самое качество его
много ниже, чем в прочих ханствах; но, с другой стороны, как мне сказывали
специалисты в шелковом деле, он несравненно лучше гиланскаго и мазендеранскаго
(персидского). Зато самый способ его обработки в высшей степени плох, и меня
особенно поражала размотка коконов, которые для того кладутся в кипяток и потом
мешаются веником до тех пор, пока от них не отделится несколько ниток, которые
потом и наматываются на тот же веник. Крашением шелка занимаются по преимуществу
евреи, ткачеством таджики и мерви, выделывающие, сообразно требованиям моды и
вкуса жителей, одни только яркие ткани. В старину, во время аравийского
господства, шёлковые ткани Средней Азии (были известны на всем востоке, но с
переселением искусных шёлковых мастеров в Дамаск и Багдад, древнее искусство
стало мало по малу приходить в упадок, так что впоследствии, несмотря на все
старания Тимура перевести эту промышленность снова в свое отечество, оно,
наконец, совсем исчезло. Чтобы познакомить читателей с количеством
вырабатываемой здесь шелковой материи, я укажу только на то, что большая часть
всеми носимых здесь бумажных тканей, называемых аладша, делается со значительною
примесью шелка; кроме того, здесь не только одни богачи, но и все люди из
среднего сословия имеют непременно одно или несколько шелковых платьев,
скатертей и платков и, наконец, здешние шелковые материи вывозятся в
значительном количестве в Персию, Индию, Афганистем и Россию. Торговый артикул,
имеющий большую будущность, это среднеазиатский хлопок. Он разводится в обширных
размерах во всех трех ханствах и доставляет материал для всякого рода одежды и
белья людям всех состояний. Туркестанский хлопок лучше индийского, персидского и
египетского, а многие считают его даже не уступающим известному американскому
хлопку. Впрочем до сих пор его потребляет одна только Россия на своих фабриках в
Москве, Владимире, Твери и других городах и притом в размерах год от году все
увеличивающихся Естественно, фабриканты жалуются на дурной способ обработки
здешнего хлопка и именно на недостаточно тщательную его очистку от семян, на
обман торговцев, которые часто для того, чтобы хлопок больше весил, смачивают
его водою или кладут в него камни. При всем том хлопок, привозимый из Хивы и
Бухары, составляет для русской промышленности почти предмет крайней
необходимости. Разведение хлопка в Средней Азии особенно удобно в том отношении,
что поля, где он разводится, вовсе не требуют орошения; дождь вообще, даже и
весною положительно считается вредным для этого растения. Для него выбирают
преимущественно жесткую каменистую почву, так называемую согу, которую
вспахивают один только раз; обработка, же и уход вообще считаются самыми легкими
из всех полевых работ. По статистическим данным оренбургской таможни, большая
часть хлопка производится в бухарском ханстве, но такое положение не совсем
верно, потому что хивинские караваны, перейдя через Яксарт, весьма часто
соединяются с бухарскими или по крайней мер выдают себя за бухарцев, к которым
русские вообще более благоволят. Сколько мне известно из моих собственных
наблюдений и расспросов, разведение хлопка в Хиве не только находятся в более
цветущем положении, чем в прочих ханствах, но и самый хлопок по качеству стоит
несравненно выше. Собственно плод, гаводше, меньше бухарского, но зато нежнее,
белее так называемого гуцеи-сефида, самого высшего сорта бухарского хлопка,
Кроме того, и сами жители Средней Азии отдают преимущество хивинскому хлопку.
Бухара в свою очередь славится крашением и ткачеством; впрочем надо заметить,
что и в Бухаре за хивинские ткани платят лучше, чем за туземные. Их вывозят в
Афганистан, Индию и северную Персию и они пользуются особенным предпочтением
даже между кочующими народами. Поэтому нет сомнения, что это произведение
среднеазиатских степных стран приобретет со временем значительную ценность.
Правда, для этого требуется не мало условий и главным образом необходимо
улучшение способов возделывания хлопка, введение усовершенствованных европейских
машин для его очистки и упаковки, и, наконец, лучшие и безопасные пути
сообщения. Тогда не только улучшится самое качество продукта, но увеличится
также и его производительность и притом без особенных усилий и затрат капитала.
Очень может статься, что со временем Средняя Азия сделается для России тем же,
чем сделалась в настоящее время Новая Каролина для Англии. Лучшим указанием
необыкновенного увеличения вывоза среднеазиатского хлопка в Россию может служить
таблица, составленная бывшим первым секретарем английского посольства в
Петербурге, г. Севиллем Лёмле, и впоследствии занесенная в Синие книги 1862 и
1860 годов. На основании этих официальных данных, вывоз хлопка из ханств
простирался:
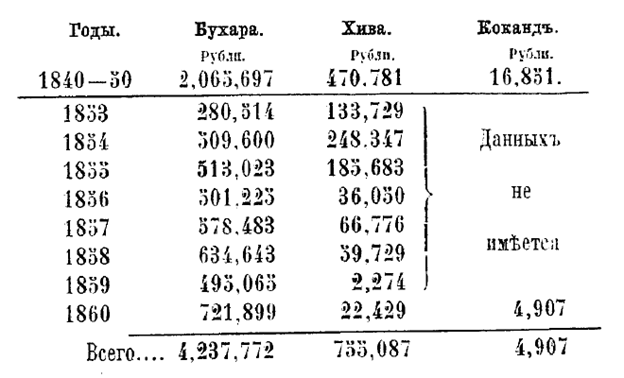
Из этих данных можно видеть,
что вывоз хлопка 1810—30 годов в следующее за тем десятилетие больше чем
удвоился: при благоприятных политических обстоятельствах он, без всякого
сомнения, должен постоянно увеличиваться. Но я снова замечу, что хотя в
приведенных данных на долю Бухары приходится большее количество хлопка, но он не
есть исключительно её собственный продукт. Большая часть его вывозится из Хивы
юргендшскими купцами бухарским путем в Оренбург и там ставится в список под
рубрикою Бухара. Кроме того, между этим хлопком много также кокандской шерсти,
потому что кокандцы, находясь с русскими весьма часто во враждебных отношениях,
выдают себя на границе за бухарцев.
Животное царство.
Здесь особенного внимания
заслуживают домашние животные, и между ними первое место занимает овца.
Последняя бывает здесь двух родов: 1) казак-кой (киргизская овца) и 2) узбег-кой
(узбекская овца). Первая из них, как по качеству шерсти, так и по вкусному
своему мясу, имеет преимущество. В Средней Азии большая часть этих животных
принадлежит к пород курдюков, имеющих до того длинный и толстый хвост, что он у
них на ходу волочится по земле, так что часто для облегчения движений животного,
приходится к хвосту привязывать катки или вообще какой-нибудь снаряд на колесах.
С первого раза это может показаться невероятным, но, в сущности, в этом нет
ничего преувеличенного и особенно такие катки привязывают к хвосту так
называемых бакканскпх овец, которые, в откормленном виде, дают нередко от 3 до
4-х батманов чистого сала. Мясо здешней овцы я нахожу лучше 11 вкуснее, чем в
других известных мне частях Азии. С ним не может сравняться в этом отношении ни
столь известный в Турции кивидржик и караман, ни даже южно-персидская овца,
которою так особенно гордятся персы. Шерсть, правда, не имеет таких же
достоинств и идет не столько на выделку тканей, вероятно по неумению
приготовлять их, сколько на ковры, дорожные сумки и попоны; впрочем, она и мало
имеет значение в здешней отпускной торговле. Напротив, весьма важную роль в
торговом отношении играют черные курчавые ягнячьи шкурки, которые исключительно
получаются из одной только Бухары и именно из Каракёля; отсюда они развозятся
потом по всем странам Азии и даже в Европу, где они известны под именем
астраханских. Шкурка, снимаемая обыкновенно с животного на второй пли третий
день по рождении, кладется на несколько дней в раствор из ячной муки и соли и
затем, вымокнув в нем, промывается в рек Церефшане, от воды которою она, по
мнению туземцев, и получает свой отличный глянец. На берегах этой реки, между
Бухарой и Барредином, в июле месяце можно видеть сотни тысяч этих шкурок,
разложенных по земле для просушки. Шкурки эти везде в почете, особенно же в
Персии, где из них делают модные шапки. Если принять в расчёт, что тамошний
кюлах (шапка, на которую обыкновенно идет три или четыре шкурки) стоит от 10 до
15 червонцев, то не трудно убедиться в том, что наши астраханские шкурки,
стоящие много дешевле, вовсе не бухарского происхождения. Овцеводство составляет
главное средство пропитания для кочевников Средней Азии, поэтому не трудно
понять, как многочисленны должны быть стада, пасущиеся и кочующие по степям
здешней местности. Киргизы отправляют множество овец в ханства, особенно же в
Россию, куда вывоз их постоянно все увеличивается. Так в 1833 году в Россию
продано было овец на 850,000 руб., а в I860 году уже на 3,644,000 р. .B том же
году перевезено кроме того за русскую границу сырых овечьих кож на 750,000 руб.
и шерсти на 86,000 руб. сер. Второе место после овцы в ряду прочих домашних
животных занимает коза. Правда мясо её не так вкусно, как овечье, но оно
все-таки здесь несколько лучше, чем где либо в другом мест Азии. Козья шерсть,
по замечанию Бёрнса, хотя и ниже кашмирской, но и из неё выделываются довольно
изрядные и непромокаемые ткани. У туркменов разводится превосходная порода
лошадей, из которых лучшие вывозятся в Афганистан, Индию и Персию. Туркменская
лошадь ахалской и иомутской породы мало уступает арабской, как быстротой бега и
сносливостью в езде, так и красивыми своими формами. Порода узбекских лошадей,
разводимая в Бухаре, Хиве и Маймене, славится не столько быстротой бега, сколько
своею силою. Верблюды Средней Азии, из которых наилучшими считаются бухарсшеи
двугорбые киргизские, в силе и быстроте уступают разве только арабским и именно
геджацкой породе. О том, будто верблюды сохраняют в двойном своем желудке воду
чистою и прохладною, которою потом в крайнем случае пользуются, будто, томимые
жаждою путешественники, здесь никто ничего не знает, и всякий раз, как мне
приходилось расспрашивать об этом у кочевников, они постоянно отвечали на мой
вопросы одним смехом. — В Средней Азии животные эти отличаются редкою
неприхотливостью: они довольствуются самою скверною водой и самым скудным
кормом, часто состоящим из колючки и кустарников, и при этом по нескольку дней
сряду Могут нести на себе самые тяжелые грузы. Кроме того в них нет ни хитрости,
ни злости аравийских верблюдов. Туземцы ведут ими торговлю с Афганистаном,
Персией, в небольшом количеств и с Россию. Кроме того два раза в год их стригут
и из получаемой шерсти делают веревки и многие другие, как грубые, так и
довольно тонкие материи.
Рогатого скота здесь вообще
не очень много и самое скотоводство находится в жалком состоянии. Лучший скот
разводится, говорят, в Коканде; на Оксус скотоводством исключительно занимаются
каракалпаки. Говядина здесь еще жестче и хуже, чем в Персии или Турции и потому
употребляется исключительно только самым бедным классом. Масло и сыр,
сравнительно, приготовляются также в небольшом количестве. Из уважения к лошади,
этому по преимуществу благородному животному, в Средней Азии вовсе не разводят
мулов, но зато особенное обращается внимание на разведете ослов, и, надо отдать
справедливость, таких красивых и славных ослов, как здешние, мне не приходилось
встречать нигде в Азии. Бухарский осел отличается не только силою и рослостью,
но и необыкновенным проворством. Во время длинных караванных переходов он
оказывается также полезен, как и лошадь. Из птиц здесь водятся: куры длинноногой
китайской породы, гуси, которые меньше европейских, и разные породы уток. Кроме
того здесь есть лебеди, рябчики, цесарки и фазаны, из которых лучшие встречаются
в Коканде.
Минеральное царство.
Никому не покажется
удивительным, что мы имеем в настоящее время весьма мало понятия о тех
богатствах, которые лежат в недрах всех трех ханств. Леманн и другие русские
путешественники, которые при достаточном запасе геологических сведений могли бы
сделать довольно обстоятельные наблюдения по этому предмету, встречали со своей
стороны, не могу разделять и мнения Бёрнса, который полагает, что в Средней Азии
вовсе нет благородных металлов, или их весьма мало и что золотой песок в
Церефшане вовсе не местный продукт, а наносится в него из других маленьких рек,
берущих начало в Гиндукуше. По словам среднеазиатов, вся гористая местность
около Самарканда и Бедахшау, также горы Овейс-Карайне на левом берегу Оксуса в
пределах хивинского ханства и Большой Балнан в степи у Каспийского моря
изобилуют благородными металлами; а что золотые рудники действительно существуют
в местностях по верхнему течению Оксуса, это доказывается тем, что, несмотря на
первобытный и небрежный способ промывки золота, там все-таки добывается весьма
изрядное количество этого металла. Промывка, или правильнее сказать ловля
золота, производятся с помощью верблюжьих хвостов, развешиваемых один возле
другого между двух шестов. Хвостами некоторое время взбалтывают воду или их
просто погружают в реку и за тем вывешивают на воздух. Для этой ловли выбирают
обыкновенно более мутные места и самое лучшее для того время в году — июнь и
июль месяцы. Что золотой песок привозится сюда из какой-либо другой местности,
этого нельзя сказать, и я слышал, напротив, от персидских золотых дел мастеров,
проживающих в Бухаре, что они выделывают разные мелкие золотые вещи из туземного
металла. Серебро находят в Хиве, в её горах, и во времена хана Аллах-Кули в три
года разработки под руководством одного опытного в этом дел индийца
действительно добыто было значительное количество этого металла. Со смертью хана
индиец этот, как говорят, бежал или был убит, и с той поры рудники стоят
заброшенными. Полагают, что серебряная руда находится также около Шери-Зебса, но
об этом дошли до меня только самые смутные слухи. Из драгоценных камней
заслуживают особенного внимания бедахшанские рубины, известные не когда в Азии
под именем бедахшанских лаоли: в настоящее время их попадается весьма мало.
Сердолик находится в большом количеств в бедахшанских нагорных реках. Он очень
дешев и вывозится в Аравию, Персию и Турцию. Лапис-лазули, употребляемый для
краски, не имеет в Средней Азии большой ценности и вывозится в Россию и Персию.
Бедахшанская и кокандская бирюза по цвету много уступает нишапурской
(персидской) и покупается только кочевниками и ногайскими серебряных дел
мастерами; она зелёного, а не голубого цвета и не пользуется таким почетом, как
последняя. Из этого краткого очерка производительности среднеазиатских степных
стран читатель, особенно если он знаком с азиатскими местностями и их условиями,
мог, я думаю, убедиться в том, что Туркестан далеко не из числа неплодородных
стран. Туземцы называют его алмазом в песчаной оправе, и действительно Средняя
Азия будет со временем играть весьма важную роль и займет самое видное место
между государствами отдалённого востока, но это будет тогда только, когда
благотворные лучи европейской цивилизации высушат грязь тамошних жалких
общественных условий и когда великие приобретения нашего века в области
промышленности и сельского хозяйства пробьют себе дорогу и туда. Не бедность
окружающей природы, а разбой, войны и убийства превращают в пустыни берега
Оксуса и Яксарта, В Бухаре, особенно же в Хиве, земледелием почти исключительно
занимаются одни только невольники, которых в одном хивинском ханств насчитывают
более 80000 человек. Грубые нравы сделали меч необходимым спутником туземца,
плуг же считается недостойным для них орудием и они передали его своим рабам. Но
скоро ли наконец убедятся ханства в том, что именно от этого ложного взгляда
происходит большая часть их несчастий и расстройство их жизненных условий? С
этой точки зрения русское правительство, поставившее себе задачею смягчение и
облегчение этих условий (время коренного их изменения еще слитком далеко),
заслуживает полной с нашей стороны признательности и желаний, чтобы стремления
эти увенчались успехом. Богатство почвы должно конечно пасть на долю России. Но
если оставить в сторон нравственное влияние её и будущие её политические
замыслы, то материальная её выгоды окажутся вообще не великими и, можно даже
сказать, ничтожными в сравнении с теми трудностями и издержками, которые
сопряжены с занятием и управлением такою провинцией, где сообщения еще долго
будут представлять несказанный препятствия и затруднения.
XV.
Древнейшая история Бухары.
То, что я передам в настоящей
глав об истории Бухары, заимствовано мною главным образом из одной персидской
рукописи, известной под именем «Tarichi Narschaclii» (история Наршахи). Автор
этой в высшей степени интересной рукописи, Некто Магомед-бен-Джафер-ель-Наршахи,
написал ее на арабском язык в 332 году гиджры, в царствование эмир а Гамида
Саманида. Впоследствии, именно в 522 году гиджры, сочинение это было переведено
на персидский язык и дополнено цитатами из другого, не менее любопытного
сочинения «Clmzain ül Ulum« (сокровища науки), написанного Эбул-Гасаном из
Нишабура. Историю Наршахи, в виду её исторического значения, полезно было бы
издать в буквальном перевод на один из европейских языков. За этот труд намерен
взяться один из моих знакомых, известный ориенталист Ханыков, и тогда это
драгоценное творение сделается доступным для большинства читающей публики. Мы, с
своей стороны, заимствовали из него только то, что пришлось в рамки наших
«очерков Средней Азии»; самый текст оригинала передали мы в вольном перевод
потому собственно, что в этом вид он не так утомителен и легче прочтется
большинством публики.
Бухара и её окрестности.
Там, где теперь стоит
священная Бухара, в древности, как говорят, были болота, образовавшиеся
вследствие ежегодных наводнений, причиняемых вытекающей из Самарканда рекой,
которая сильно разливалась летом от таивших на соседних горах снегов.
Впоследствии болота эти были высушены и скоро на плодородную почву со всех
сторон стали стекаться переселенцы, которые, осевши здесь, избрали себе из своей
среды властителя, по имени Аберзи. Бухары собственно тогда еще не было, а
существовало несколько деревень, из которых самая большая была Бейкенд или
Пейкенд (деревня властителя). Но тирания скоро разрушила эту новую колонию.
Часть поселенцев возвратилась тогда в северный Туркестан, основала там город
Отрар, который скоро достиг цветущего положения. Впоследствии, по призыву на
помощь оставшимся в Бейкенд собратам, они снова вернулись на прежнее место.
Владыка их, Шир-Кишвер (лев страны), покорил злого Аберзи, посадил его в мешок с
красными иглами и катал его в нем, пока тот не умер. Бухара снова расцвела.
Шиир-Кишвер, управлявшей страною 20 лет, много с своей стороны способствовал
процветанию колонии; наследники его следовали его .примеру и скоро вся страна
заселилась и покрылась деревнями. К какой именно эпохе нашего летосчисления
относится это время определить очень трудно, и мы напрасно стали бы пытаться
уяснить себе баснословные сказания о древнейшей истории Бухары; это был бы труд
совершенно бесполезный. Поэтому мы сообщим лучше в высшей степени интересный
счисления рукописи и начнем прямо с Бухары, которая со времени самой глубокой
древности сделалась важным местом.
Бухара, главный город.
Не особенно интересно будет
для читателей узнать то, что говорится в нашем историческом памяти о религиозном
значении этого города, о разных преимуществах его жителей, также о том
блаженстве, которое их ожидает в день воскресения и пр. Основателем крепости
считается Зиауш, тот самый, который впоследствии там же у ворот гурианских был
убит своим тестем. Место это всегда уважалось огнепоклонниками и каждый из них
на новый год перед восходом солнца приносил там в жертву петуха. Это торжество
было повсюду известно, и трубадуры долго воспевали его в своих песнях, хотя дело
было 3000 лет назад. Другие, напротив, утверждают, что строителем крепости был
Эфразиаб. Одним словом, крепость эта долгое время оставалась в запустении и в
ней никто не жил, пока, наконец, Беидон, муж царицы Хатун, снова не отстроил её
вместе с цитаделью, на воротах которой приказал вырезать на железной доске свое
имя. В 600 году гиджры ворота эти с железною доской были еще видны, впоследствии
они пришли в развалины и вес попытки восстановить замок оставались тщетными.
Наконец, по совету тогдашних мудрецов, замок был снова выстроен по образу пелеяд
на семи столбах и с той поры все жившие в нем властители были непобедимы и, что
особенно замечательно, ни один из них не умер, пока жил в том замке. Он имел
двое ворот, восточный, или гусианские, и западные, пли ригистанские,
соединявшихся между собою дорогою, и заключал в себе как помещения высших
властей, так и тюрьмы, казнохранилище и диван. После нескольких лет запустения,
он снова был отстроен Арслан-Ханом и получил при нем прежний свой вид. В 534
году гиджры, по завоевании Бухары шахом Харезмом, назначенный Зандшаром
правитель города был казнен и самый замок разорён, но в 536 году последний был
снова восстановлен. Подобная судьба нередко и после того постигала замок, пока
наконец не пришли монголы и под предводительством Чингиз Хана не превратили
Бухару с её крепостью в кучу развалин.
Из дворцов, украшавших
Бухару, первое место занимал ригистанский серай, в котором обыкновенно проживали
властители края, как до принятия страною ислама, так и после. По обширности и
великолепию замечателен был дворец, построенный эмиром Саидом-Саманидом, в
котором властитель жил со всеми своими верховными сановниками за тем следует
серай Молиан, построенный на берегу канала того-же имени и, судя по описанию,
бывший очаровательным местом, окруженным прекрасными садами, роскошными лугами,
цветочными клумбами, ручейками и фонтанами. Кроме того, все пространство от
ригистанских ворот до Дештека (маленькое поле) было усеяно изящно раскрашенными
домиками, восхитительными прудами и высокими тенистыми деревьями, которые вовсе
не пропускали солнечных лучей, и садами, где росли самые разнообразные плоды,
как-то: миндаль, кедровые орехи, вишни и пр. Замечателен также дворец Шемшабад у
ибрагимских ворот, построенный Шемсед-дином, п особенно славящийся своим
зверинцем, называвшимся в то время куруком. Он имел четыре мили в окружности и
обнесен был высокими стенами, там были и голубятни, и дикие животные, как-то:
обезьяны, газели, лисицы, волки, кабаны (!) в полу приручённом состоянии. По
смерти Шемсед-дина престол достался сначала его брату Хидр-хану, а потом его
сыну Ахмеду, которые еще 60лее украсили дворец, но впоследствии, когда Ахмед был
покорен шахом Меликови и отведен в Самарканд, дворец его снова пришел в
развалины. Кроме того, в окрестностях было много загородных домиков,
принадлежавших большею частью кешкушанам. Так назывались пришельцы с запада (но
не арабы), поселившиеся в Бухаре и пользовавшиеся доброю славою. Когда, по
завоевании Бухары, Кутеибе потребовал для арабов уступки половины этих домов,
кешкушаны оставили свои жилища и поселились за городом. Из этих загородных
домиков осталось впоследствии только два или три, под названием кешки-моганов
(киocков жрецов огнепоклонников). Как известно, в Бухаре было несколько храмов,
принадлежавших этой религиозной секте, и моганы всячески старались поддерживать
эти священные места. Первая городская стена вокруг Бухары была построена по
повелению губернатора ЭбудАббаса, в 215 году гиджры, вследствие беспрестанных
жалоб жителей на нападения турок. В 235 году она была подновлена и укреплена, но
впоследствии была разрушена монгольскими ордами, опустошившими Бухару и её
окрестности. Кром всего сказанного, здесь были замечательные мечети и разные
другие здания. Но все это частности, которыми мы вовсе не намерены занимать
наших читателей. Указанием на некогда цветущее положение Бухары и её
окрестностей могут служить 12 каналов или больших водопроводов, пересекавших
страну в разных направлениях. Плодородие и благодатное свойство тамошней почвы
вошли на восток в поговорку. Это всего лучше доказывают налоги, которые некогда
платила Бухара с её окрестностями. После четвертого, то есть окончательного
завоевания Бухары Кутеибом, багдадский калиф получал ежегодно 200,000,
херасанский губернатор 10,000 дирхемов. Во времена господства Саманидов Бухара и
Кермине платили налогов более 1 миллиона дирхемов, что, при тогдашней ценности
денег, составляло весьма значительную сумму . (До введения ислама Бухара
занималась только меновою торговлей. Кевенхор был первым её повелителем,
чеканившим серебряную монету. Деньги эти имели на одной сторон его изображение и
были из чистого серебра. Так продолжалось до Абубекера. За тем старая монета
становилась все реже и реже и заменилась наконец дурною харезмскою монетою. Во
времена Гарун аль Рашида тогдашний правитель Бухары Атриф отчеканил новую монету
из шести металлов, называвшуюся по имени его Атрифи или Ацрифи. Я полагаю, что
персидское слово Ешрефи, (червонец) взято не с арабского языка, а произошло
именно от слова Ацрифи).
Между прочими народами
тогдашней Азии Бухара отличалась также и своею промышленностью. Ткани, которые
вырабатывались на берегу Церефпиана, были в большом ходу в Аравии, Персии,
Египте, Турции и даже в Индии. Правда, что тогда были известны три только цвета:
белый, красный и зеленый, но зато самые ткани были плотны и прочны и составляли
любимую одежду владетельных особ многих стран. Кром того, в Бухаре выделывались
ковры и занавесы. Первые стоили в то время так дорого, что, например, город
Бухара мог одним таким ковром уплачивать свою ежегодную подать багдадскому
правительству, Впоследствии, по разорении Бухары, рассеялись и искусные её
мастера, а с ними пропало и самое искусство.
Окрестности Бухары.
Кроме столицы и её
достопримечательностей, в названной нами рукописи упоминается также и о многих
окрестностях Бухары. Некоторые из них существуют и теперь, другие же исчезли без
всяких следов. Кермине, в состав которого входит несколько других селений, было
родиною многих поэтов. Оно находится от Бухары на расстоянии 11 ферсахов и
называлось прежде Дихи-Хурдеком (маленькой деревней). Нур, большое селение с
несколькими мечетями, караван сараями и святынею, чтимою всею окрестностью. В
Бухаре место это пользуется особым почтением, так что посещение его считается за
половину путешествия в Мекку. В чужих странах его часто смешивают с городом
Бухарой. Таваис (так называют это место арабы, собственно же Куд) был известен
своими рынками. Они продолжались обыкновенно десять дней, и сюда ежегодно
съезжалось до 10,000 человек из Фенгханы (Коканда) и прочих стран. Это самое
было главною причиною благосостояния местных жителей, которые вообще славились
своим богатством. Таваис лежит на главной дорог в Самарканд и отстоит от Бухары
всего на 7 ферсахов.— Искукет, большая и богатая деревня, которая производит
значительную торговлю кирбасом (род полотна), имеет множество мечетей и караван
сараев и считается одною из самых красивых деревень в окрестностях Бухары.—
Цендине производит лучшее полотно в Бухаре, которое вывозится в Арак, Фарс,
Иирман и другие отдаленный страны и всюду употребляется на одежду князей и людей
богатых; по этому самому оно и пользуется особенным почетом и ценится наравне с
самыми дорогими материями. — Реване, сильно укрепленное место, было прежде
резиденцией властителей страны и, как говорят, построено Шапуром. Оно лежит на
границе с Туркестаном, имеет еженедельную ярмарку, на которой много сбывается
цендинских полотен. — Ефшана, хорошо укрепленное место, с мечетью, построенною
Кутеибом и с ярмаркой, которая бывает каждую неделю.— Беркенд, древняя большая
деревня, которая некогда была куплена эмиром Измайлом-Самани и доходы с которой
шли в пользу дервишей и сеидов. — Раметин, древнее Бухары, был некогда
местопребыванием повелителей страны. Он построен, как полагают, Ефразиабом,
который сильно укрепил его впоследствии, когда ему удалось отразить нападение
Рейхозрева, желавшего отомстить ему за смерть отца и зятя. Тут был знаменитейшие
во всей Трансоксании храмы огнепоклонников. Спустя два года Ефразиаб был взят
Рейхозревом в плен и убит; могила его, как говорят, находится у самого входа
храма, на вершин горы, смежной с горою Ходжа-Иманом; это, как гласит рукопись,
было лет 3,000 тому назад. — Ферахша, бухарский город, известный своим замком,
построенным Гедельцом лет 1,000 тому назад и затем целые годы стоявшим в
запустении. Гебек впоследствии реставрировал одну часть этого замка и полагают,
что здесь умер Биниад, сын Тугшада. Во времена ислама эмир Измаил (Саманид) имел
намерение превратить его в мечеть и предлагал жителям 20,000 дирхемов на
покрытие этих расходов, но получил от них отказ. При эмире Гайдер (Саманиде)
были еще целы некоторые деревянные постройки, перевезённые им в последствии в
Бухару и там употреблённые на сооружение дворца. В Ферахше в год бывает до 15
ярмарок, из которых последняя, обыкновенно в конце года, продолжается 20 дней и
называется новогодней. Спустя пять дней после неё празднуется так называемый
норуци-моган, т е. новый год жрецов огнепоклонников,— Бейкенд принадлежит к
числу городов, которого жители приходили в негодование всякий раз, когда кто
называл их город деревнею; когда бейкендца в Багдаде спрашивали, где его родина,
то он обыкновенно называл Бухару. И в самом деле, Бейкенд был значительным
местом, в нем было много красивых зданий и мечетей, а в 240 году гиджры там
находилось немало так называемых рабатов (казенных домов, в вид караван сараев).
Таких зданий считалось там до тысячи и каждое из них принадлежало жителям особой
деревни, лето проводившим у себя дома, а на зиму перебиравшимся в город
проживать в нем плоды своих трудов. Кроме того, бейкендцы были отличными купцами
и вели торговлю с Хивой и с морем (?). Укрепления этого города, которые вообще
старше бухарских, доставили немало хлопот Кутеибу при покорении страны; в
старину повелители страны имели здесь свои замки. Между Бейкендом и Фарабом
считается 12 ферсахов по песчаной степи. Аpслан-хан построил здесь великолепное
здание и провел к нему канал Джарамгам, стоивший ему не малых издержек. В
окрестностях Бейкенда растет много тростника и находятся большие озера,
называющиеся Баркенти-Феррах или Каракёль. По достоверным сказаниям, озера эти
имеют до 20 фарсахов в длину и при этом во всем Хорасан известны изобилием рыбы
и всякой водяной птицы. По недостатку воды в канал Джарамгаме, Арслан-Хан
намеревался провести реку из этих озер в Бейкенд, расположенных на небольшом
возвышении. Начали копать и при этом наткнулись на твердую скалу, которая не
поддавалась никаким орудиям. Массы сала и уксуса (?) были потрачены для
размягчения камня, но ничто не помогло, так что принуждены были бросить работы.
В Фарабе большая мечеть, которой стены и купол выложены из кирпича так что все
не было видно дерева. Он управлялся своим собственным князем, бывшим в некоторой
независимости от Бухары.
Королева Хатун и первые
четыре арабских полководца
Во время аравийского
завоевания или, правильнее, в то время, когда первые форпосты аравийских
авантюристов вторглись в пределы отдаленного востока, на бухарском престоле
восседала женщина.
По несовершеннолетию своего
сына, Тугшада, она 15 лет управляла страной с могуществом и справедливостью. Об
этой замечательной женщине говорят, что она ежедневно выезжала верхом на
регистан, садилась на престол и, окружаемая всеми сословиями народа, занималась
всеми делами управления.
Почти в исход 53 года гиджры
арабы, под предводительством Абдулах-бин-Цияда, перешли чрез Оксус и взяли
сильный в то время город Бейкенд. Победа эта доставила им большие сокровища и до
4000 пленных. В 54 году гиджры с сильным войском и осадными машинами они
окружили Бухару. Хатун испугалась в виду угрожавшей ей опасности. Она отправила
немедленно одного посла к арабскому военачальнику с подарками, затем, чтобы
склонить его хотя бы на четырнадцатидневное перемирие, а другого, между тем,
тайными путями послала за помощью к турецким племенам, жившим в то время на
северо-восток от её владений. Хитрость эта ей удалась. Арабы, ничего не
подозревавшие, согласились на перемирие, а между тем подоспели и турецкие
вспомогательные войска. Хатун приободрилась, напала на осаждавших и обратила их
в бегство. Поражение это не отрицается даже арабскими историками; только они
присовокупляют, что мусульманское войско взяло богатую добычу золотом, серебром,
разною одеждою, оружием и в том числе золотые, украшенные драгоценными каменьями
башмаки королевы Хатун, которые оценивали в 200,000 драхм. Абдулла-бин-Цияд
велел вырубить в окрестности все деревья и опустошить селения. Хатун, радея об
участи своей страны, заключила с арабами мир, купленный ею, по свидетельству
последних, за 1 миллион драхм. В 56 году гиджры правителем Хорасана был
провозглашен Саид-бин-Осман. Он перешел Оксус и напал на Бухару. Хатун хотела
купить мир за такую же сумму, какую она дала Абдулла-бин-Цияду, но Саид,
стоявший с 120,000-ным войском в Кеш (Шери-Зебс) и Нахшеб (Карши), отверг
предложение, начал войну и заключил мир только после того, как разбил армию
Хатун. Царица принуждена была покориться и явилась вассалкою (Рассказывают, что
Сайд-бин-Осман влюбился в Хатун, которая была знаменитой красавицей, и что даже
в позднейшие времена в Бухаре сложились народные песни, воспевавшие это
обстоятельство) в стан арабов Покоренный город дал 80 заложников и
Саид-бин-Осман отправился к Самарканду, который также взял, и возвратился оттуда
с богатыми, сокровищами в Медину. Предание гласит, что заложниками были те
предводители, которые сомневались в законности принца Тугшада и составили
заговор против царицы. По уговору, эти заложники должны были сопровождать
арабское войско только в пределах Бухары; но Саид хотел взять их с собою в вид
трофей при своем въезде в Медину. Это возмутило обманутых бухарцев и так как они
были убеждены в неизбежности своей погибели, то решились умереть, по крайней
мере, отомстив за себя. Они умертвили Саида и затем сами лишили себя жизни.
Преемником Саида по управлению Хорасаном был Муслим-бин-Цияд. Он поспешил к
своему посту, собрал значительное войско и пошел на вероломную Бухару. Хатун
скоро заметила, что ей одной с ними не справиться, предложила свою руку терхуну
(обладателю) Самарканда, чтобы купить этим защитника для своей страны. Призван
был на помощь также могущественный повелитель турок Бендун. Так как все обещали
свою помощь, то арабы поспешили заключить мир, на который согласилась и Хатун;
мир был уже совсем заключен, как вдруг явился Бендун с 120,000-ным войском и
склонил раскаявшуюся царицу к нарушению договора. Арабский полководец был до
крайности этим раздражен и послал одного из своих офицеров, по имени Мехлеба, к
Хатун напомнить ей об обещанном повиновении. Мехлеб взял с собою от каждого
знамени по человеку и выступил тайно из лагеря с намерением сделать ночью
нападение на неприятельскую армию. Он уже достиг берега реки (Церефшана); тут
еще несколько арабов, полагая, что дело идет о хищническом набеге, побуждаемые
жадностью к добыче, присоединились к его отряду, так что всего войска у него
составилось не более 900 человек. Неприятельские всадники скоро заметили их и
при первом же нападение перерезали 400 из них. Оставшиеся скоро обратились в
бегство, но были нагнаны на рассвете, недалеко от Хотена (?). Завязалась
отчаянная борьба. Мехлеб, окруженный со всех сторон неприятелем, сильным криком
дал знать находившемуся недалеко арабскому лагерю об угрожавшей ему опасности.
Призывный клик был услышан. Муслим узнал голос Мехлеба, однако мало обратил на
него внимания и только Абдулла, возгоревший негодованием на равнодушие
предводителя, бросился немедленно с немногими людьми на коней, чтобы подать
помощь стесненным братьям. Прибытие их оживило мужество Мехлеба и его отряда;
разгорелась с новою силою резня, Бендун пал и турки обращены были в бегство с
большим уроном. Победителям досталась громадная добыча и при разделе каждому
всаднику пришлось, говорят, по 1000 дирхем. После этого поражения Хатун
склонилась на мир и снова присягнула в верности арабам. Появившись в лагере, она
пожелала увидать лично Абдуллу, геройские подвиги которого приводили в изумление
весь мир. Муслим велел его позвать. Он был одет в голубую одежду, перепоясан
красным поясом и своею стройною наружностью произвел сильное впечатление на
царицу, которая щедро одарила его. Четвертый арабский полководец, посланный в
Бухару и окончательно уже покоривший ее, был Кутейбе-бин-Муслим. Он пошел на
Хорасан при калифе Гюдшадша, покорил на своем пути провинцию Тохаристан и
перешел Оксус в 88 году гиджры. Бейкенд, при известии о его приближении, обращен
был в сильную крепость и занятие его вызвало самую ожесточенную борьбу. Арабы
осаждали его пятьдесят дней и при этом потерпели большой урон. Так как силой
ничего нельзя было сделать, то прибегли к хитрости. Кутейбе велел вырыть
подземные ходы, крепость была застигнута врасплох и взята. Он даровал прощение
жителям, заключил с ними мир и, оставив там губернатором некоего.
Варка-бин-Наера, пошел на Бухару. Он был еще на пути, когда ему принесли
известие, что бейкендцы умертвили оставленнаго у них наместника. Последний, как
оказалось, вызвал мятеж своими позорными поступками. Кутейбе поспешил тем не
менее назад, напал на город, разграбил и опустошил его, и умертвил всех
способных носить оружие. Богатый и могущественный Бейкенд, производивший
обширную торговлю чаем и другими китайскими товарами, был совершенно разрушен;
некоторые части его были, правда, впоследствии возобновлены, но блестящее
положение он потерял навсегда. Рассказывают, что арабы при занятии и
разграблении этого города в числе прочих сокровищ нашли в одном храм серебряного
идола, весившего вместе с одежами 150 мискаль. Всего замечательнее были две
жемчужины, величиною с голубиное яйцо, принесённые по рассказам бейкендцев, в
храм какою-то птицею. Кутейбе послал их в подарок калифу Гюдшадшу, который
выразил в благодарственном письме свое удивление, как присланному предмету, так
и великодушию приславшего. Отсюда Кутейбе направился к Вардану (теперешшй
Варданци), и покорил его со всеми принадлежавшими к нему селениями. Это
победоносное шествие арабского войска напугало незначительных владетелей этой
местности. Они соединялись между собою и соединенными силами напали на
враждебных пришельцев. Кутейбе, как утверждает арабский историк, находился в
весьма стесненном положении, к тому же у него был недостаток в оружии: говорят,
что копье покупали тогда за 50, шлем за 50, а панцирь за 900 дирхем. К счастью
арабы успели обманом и хитростью склонить повелителя Самарканда на свою сторону,
а слухи, распущенные ими, что в Кеш и Нахшеб пришло новое вспомогательное
войско, заставили турецких предводителей отступить к северу; таким образом
завоеванная провинция Транс-Оксания осталась во власти Кутеибе.
Тугшаде и Моканна (скрытый
под покрывалом пророк Хорасана).
Тугшаде, по смерти матери
сделавшийся владетелем Бухары, обязан был своим престолом единственно только
Кутеибу, который защитил его против могущественного соседа и врага, властителя
Вардана, который неоднократно проникал в Бухару, но всегда был отбиваем
Кутеибом. Чувство признательности, говорят, было главною причиною того, что
Тугшаде перешел в ислам и был большим ревнителем нового учения. Он царствовал 32
года, но был не столько самостоятельным властителем, сколько вассалом Кутеиба,
находившего в нем сильную опору в насильственном распространений учения
Магомета, к которому обитатели Бухары были в начале сильно не расположены. Так
как арабские фанатики делали обращение в ислам главным условием подчинения, то
бухарцы всякий раз при занятии их столицы выказывали себя наружно приверженцами
ислама, но по удалении завоевателей сейчас же опять возвращались к любимой
национальной религии парсов. Кутеибе решился положить этому конец. Он приказал
уступить половину домов во всем городе арабам. Новообращенные очутились
вследствие этого в непосредственном соприкосновении со своими учителями, бывшими
всегда на стороже и понуждавшими их к соблюдению нового закона. В 94 году гиджры
Кутеибе велел построить большую мечеть, куда все должны были собираться на
пятничную молитву и где Коран читался на персидском языке. Эта мечеть
существовала еще во времена автора нашей рукописи. Он говорит, что на дверях
мечети вырезаны были фигуры (а всякие изображения, где бы то ни было, тем более
в мечети, считаются, как известно, по Корану, большим грехом). Говорят, что эти
двери принадлежали прежде храму огнепоклонников. Тугшаде царствовал 32 года.
После смерти его на престол вступил сын его Кутеибе (названный им так по
привязанности к арабскому полководцу). Сначала он выказывал себя мусульманином,
но когда вскоре потом открылось, что он держался тайно старой религии, то его
казнили по приказанию Эбу-Мусбина, наместника Хорасана; на его место властителем
Бухары сделан был Бинеят, другой сын Тугшада. В царствование обоих этих
государей сефидшамганы или облеченные в белые одеяния (как называли
последователей Моканны, скрывавшегося под покрывалом хорасанского пророка)
вместе с новым учением подняли знамя бунта против арабских. завоевателей.
Подобно Кутеибу (сыну Тугшада) Бинеят присоединился к мятежникам, но был
умерщвлен в 166 году гиджры по приказанию халифа. Фамилия Тугшада удерживала за
собою престол Бухары до 301 года гиджры, когда Абу-Ишак, сын Ибрагима, сын
Халида, сын Бинеята, отказался от своих прав в пользу эмира Измаила-Саманида.
Что касается до возмущения сефидшамганов и Moканны, то оно могло бы иметь весьма
опасный последствия для ислама в Средней Азии, если бы тогдашние начальники в
Бухаре, в особенности же халиф Мехди, не предприняли самых деятельных мер в
подавлению этой новой секты. Как рассказывается в рукописи, находящейся у нас
под руками, Моканна (покровенный пророк Хорасана), настоящее имя которого было
Гашим-бин-Геким, родился в деревне Гере, близ Мерва, и уже в молодости занимался
разными науками, в особенности же волшебством и тайными искусствами. Моканна,
или покровенным, он назван был потому, что покрывал всегда свою голову покровом,
так как он, как известно, был весьма безобразен лицом, об одном глазе и к тому
же еще плешив. Уже при Эбу-Муслим Геким занимал высокое положение в войске и так
как он уже в то время выступил в своей роли навага пророка, то был схвачен,
отправлен в Багдад и там заключен в темницу. Он бежал оттуда, возвратился в Мерв
и, явившись в первый раз перед народом, спросил: «а знаете ли вы, кто я?» Ему
сказали, что он Гашим-бинГеким, на что он отвечал: «вы находитесь в
заблуждении! Я ваш бог и бог всех миров. Я называю себя, как хочу. Прежде я
являлся в этом мир в образ Адама, Ибрагима, Мусы (Моисея), Иисуса, Магомета,
ЭбуМуслима, а теперь являюсь в том образе, в котором вы меня видите». «Отчего
это», спрашивали его, «те выдавали себя только за пророков, а ты хочешь быть
Богом?» «те были только чувственны», отвечал он, «я же весь духовен и всегда
обладал силой показывать себя во всяком образе». Он жил в то время еще в Мерве,
но посланные им люди ходили повсюду и вербовали ему последователей. Окружные
послания Моканны начинались следующим образом: «Во имя милосердого и всеблагого
Бога, Я, Гашим, сын Гекшиа, владыка всех владык. Да будет благословен Бог
единый, Он, открывавший себя прежде в Адаме, Ное, Ибрагиме, Мусе, Христе,
Магомете, Эбу-Муслиме. Именно я, Моканна, Господь силы, и славы, и мудрости.
Собирайтесь вокруг меня и знайте, что мне принадлежит владычество над миром, мне
принадлежит слава и всемогущество. Кром меня нет Бога, идущий со мною пойдет в
рай, бегущий от меня низринется в ад». Из сподвижников его больше всех отличался
один араб, по имени Абдулла, совративший весьма многих в окрестностях Кета.
Впоследствии на его сторону перешла также значительнейшая часть селений
Самарканда и Бухары. Последователи новой секты становились со дня на день
могущественнее и вместе с числом их возрастали как возмущения и беспорядки, так
и опасности для мусульман, а вместе с ними и обуявший их ужас. Наместник
Хорасана, извещенный об этих проделках нового учителя, хотел схватить Моканну,
но он укрывался довольно продолжительное время и, как ни стерегли все переправы
через Оксус, ему удалось однако бежать в Транс-Оксаник и здесь укрыться в
сильном укреплении, на горе Сам, недалеко от города Кеша (теперешнего
Шери-Зебса). Сам халиф, Мэхди, также испугался, узнавши обо всем этом. Он послал
сначала войско, а затем явился сам лично в Нишабур; дело было не шуточное:
последователи Моканны начинали побеждать и исламу грозила самая серьёзная
опасность. Так как новая секта дозволяла грабеж и убийства, то к восставшим
присоединились вскоре многочисленные орды из Туркестана. Мусульмане теснимы были
со всех сторон, села их подвергались разграблению, а жен и детей уводили в плен.
В 159 году гиджры комендант Бухары выступил против них со значительными силами и
началась та борьба между последователями Моканны и магометанами, которая
тянулась в этих местностях целые годы. Покровенный пророк не оставлял своего
укреплённого местопребывания, а духовного влияния его было достаточно для
возбуждения его последователей к самому упорному сопротивлению. Арабский
гарнизон Бухары, с теми немногими, которые остались верными исламу, скоро
почувствовал себя слишком слабым, чтобы выдержать натиск неприятеля, далеко
превосходившего его числом и фанатизмом. Из Багдада было послано вспомогательное
войско под предводительством Джебраил-бин-Яхя и сделано было прежде всего
нападение на Наршах, в окрестностях Бухары, бывший главным убежищем
сефидшамганов. После продолжительной и тщетной осады стена была разрушена только
тем, что вдоль неё вырыли ров, длиною в 50 локтей, наполнили его дровами и
нефтью и зажгли, вследствие чего сгорели поперечный бревна в стене и вся масса,
лишенная всякого скрепления, скоро рухнула. Магометане ворвались в крепость:
многие из осажденных были изрублены, многие покорились под условием свободного
отступления с оружием в руках, — крепость была очищена; но когда сефидшамганы
услыхали, что предводители их были умерщвлены изменническим образом, они
схватились за оружие, хотя были в неприятельском лагере. Началась ожесточенная
борьба. Арабы остались победителями и частью истребили, частью обратили в
бегство последователей Моканны. После Наршаха взят был Самарканд, большая часть
жителей которого были приверженцами новой секты. Осада и битвы под этим городом
тянулись более двух лет, потому что к самаркандцам присоединилось большое число
турок и успех долго не склонялся ни на ту, ни на другую сторону. Сам Моканна,
мистический пророк, находился постоянно, в продолжение этого времени, в своем
укреплении, окруженный сотнею красивейших женщин Транс-Оксании. Внутренность
крепости занята была только женами пророка, им самим и единственным его пажом
мужеского пола — никакому другому глазу человеческому не дозволено было
проникать в это святилище. Рассказывают, что как то 50,000 его последователей
расположились перед крепостными воротами и молили его усерднейшим образом явить
им хоть один только раз свою божественную славу. Он отказал им и послал своего
пажа с такими словами: «скажи слугам моим, что и Муса (Моисей) желал видеть мое
божество, но не мог вынести лучей моего сияния, ибо сына земли мгновенно убивает
мой взгляд». Восторженная толпа принялась уверять, что все охотно готовы
пожертвовать своею жизнью, лишь бы только удостоиться высокого наслаждения его
видеть. Так как нельзя уже было более отказываться, то Моканна внял их мольбам и
велел им собраться в назначенное время перед воротами крепости, обещая там
показать себя. В назначенный день, вечером. Моканна приказал своим женам стать в
крепости всем в один ряд, с зеркалами в руках, так чтобы лучи заходящего солнца
отражались в них. Когда отворились ворота, блеск ослепил верующих с
благоговением взиравших на пророка, в смущении они пали на землю, восклицая:
«Боже! для нас довольно и того, что мы видели, потому что если мы увидим более,
то все погибнем». Долго они лежали ниц, молясь ему, пока он наконец не послал к
ним своего пажа с вестью: «пусть они встанут, Бог доволен ими и дарует им блага
всех миров». Говорят, что Моканна оставался в этой крепости четырнадцать лет,
проводя почти все время в пирах и веселии с своими женами. После продолжительной
осады арабский полководец Саид-Гирси овладел, наконец, наружною частью крепости;
оставалась не взятой только цитадель, лежавшая на крутой, неприступной скале.
Потухла звезда счастья Моканны, покинули его все последователи. Видя приближение
неизбежной гибели и не желая отдаться живым в руки врагов, он решился сам
погубить себя вместе с своими женами и сокровищами. Он задал последний пир,
всыпал сильную дозу яду в вино и потребовал от жен осушить с ним чашу. Все
выпили кроме одной, которая украдкой выдала вино себе в платье и впоследствии, в
качеств очевидицы, сообщила о том, как было дело. По её рассказу, Моканна,
когда все жены мёртвые свалились на землю, отрубил голову своему верному пажу и
совершенно нагой сжег себя с своими сокровищами в печи, которая топлена была три
дня сряду. Он говорил уже прежде, что хочет идти на небо, чтобы призвать ангелов
на помощь против вероломных своих последователей. «Я долго стерегла печку»,
рассказывала оставшаяся в живых жена его, «но он уже больше не выходил из неё.»
После смерти Моканны там и сям показывалось еще несколько курьезных сект и
религий, однако все он были подавлены все более и более разраставшимся
могуществом ислама. Между Саманидами все более и более распространялось учение
Магомета, а Транс-Оксания своей ревностью к новому учению вскоре сделалась
знаменитою во всем магометанском мире.
XVI
Этнографические очерки
туранских и иранских племен Средней Азии.
1)
Восточные турки.
А) ТИПЫ И НРАВЫ.
На всем земном шаре немного,
кажется, таких мест, которые представляли бы для наших исторических исследований
такое важное значение. как оазисы Средней Азии. В древние времена здесь обитали
воинственные орды, которые часто наводняли и завоевывали прекраснейшшя страны
Азии и, стремясь оттуда диким потоком на запад, приводили в трепет даже Европу.
Ни один народ не представляет собою для нас в области этнографии такого
интереса, как турко-татарский народ, являвшийся на сцене всемирной истории под
столь различными названиями и образами, и оказавший такое могущественное влияние
на нашу собственную историю. И не странно ли, что именно с этим народом мы
знакомы всего менее. Гунны, авары, утигуры, кутригуры, хазары и многие другие
проходят перед нашими глазами в полумраке басни. Гром оружия их, раздававшийся
на всем протяжении от Яксарта до сердца Галлии и Рима, уже давно смолк и мы
напрасно стали бы доискиваться следов их происхождения, если бы не нашли
некоторых точек опоры в скудных указаниях тогдашних хроник западных стран. Эти
данный доказывают нам, что между тогдашними татарскими ордами и настоящими
обитателями Средней Азии нельзя не признать известной степени аналогии; мало
того — в описании их образа жизни мы находим так много сходства с нравами и
физическими свойствами настоящих туркестанцев. Ту же самую жизнь, какую
изображает нам Приск, описывая двор царя гуннов, можно встретить еще и теперь в
шатре начальника кочевников. Атилла оригинальнее Чингис-Хана и Тимура, но, как
исторические личности, они все-таки похожи друг на друга. Энергия и счастливые
случайности могли бы еще и теперь легко воспроизвести на берегах Оксуса и
Яксарта одного из тех героев, армия которого, увлекая все за собою подобно
снежной лавине, могла бы разрастись до сотен тысяч, и который, вероятно, явился
бы новым бичом Божиим, если б ему не заграждал дороги могущественный оплот нашей
цивилизации и её влияние, простирающееся далеко на восток. Да, народы Средней
Азии, в особенности кочевники, по внутреннему характеру своего быта, те же
самые, какими они были 2000 лет тому назад. В физиономических их признаках уже
произошли, конечно, изменения, а смешение с иранскою и семитическою кровью до, в
особенности же после, арабского завоевания приблизило там и сям черты
монгольско-калмыцкого типа к чертам кавказского племени. Татарин в Средней Азии
уже не тот, каким изображают его нам греко-готские писатели, потому что даже во
времена Чингис-Хана он уже выродился. Интересно, поэтому, проследить, как это
изменение, по мере приближения от востока к западу, становится более и более
заметным на все более и более теряющих свои отличительные признаки типах, как
можно объяснить такую утрату турецкого типа отдельными племенами Средней Азии и
в какой мере, эти отдельные отклонения приходили, вследствие социальных
отношений, в соприкосновение с чуждыми элементами. Это всего нагляднее
представится нам при обзор турецких народов Средней Азии от внутреннего Китая до
Каспийского моря: турки, обитающие отсюда до Адриатического моря, или живущие по
берегам Дуная, суть западные турки и могут быть причислены к одному семейству с
среднеазиатами не столько по физиономическим признакам, сколько по аналогии
языка, характера и нравов. У первых, массы которых удержались более
сплотившимися друг с другом, можно еще ясно подметить единство племени по чертам
лица и по другим общим физическим признакам, не смотря на все отрасли и
семейства, на которые средне азиаты сами себя строго подразделяют, и не обращая
внимания на все наши этнографические деления. Каково бы ни было наше мнение о
происхождении турок, во всяком случае остается несомненным то, что они находятся
в ближайшем родстве с монголами и притом в более тесном, нежели какое
существует, напр. между индийцами и персами в иранском племени. Много,
бесконечно много остается сделать, прежде чем мы дойдем до уяснения себе
взаимных отношений всего туркотатарского племени, простирающегося от Гиндукуша
до берегов Ледовитого океана, от внутренности Китая до берегов Дуная, Настоящий
наш очерк не более, как слабый опыт; он заключает в себя воззрения,
приобретённые нами и личных наших наблюдений и представляет, быть может, кое-что
нового. Мы разделяем турок, на известной нам полосе от востока к западу, на
следующие отрасли: на а) бурят — черных или настоящих киргизов;
b)
киргизов — собственно кайсаков, с) каракалпаков, d) туркменов; е) узбеков.
а) Буряты.
Буряты, называемые настоящими
или черными киргизами, обитают на восточных границах Туркестана, а именно в
долинах Тияншанских гор и в нескольких пунктах по берегу Иссик-кюла вплоть до
пограничных городов Коканда. Все они, как мне рассказывали (потому что сам я
видел только немногих), приземисты, но сложены плотно и отличаются сильно
развитыми костями и замечательным проворством, — последнему качеству
приписывается и прославленная воинственность их.
По своей физиономии они
только тем отличаются от монголов и калмыков, что лицо их менее плоско, щеки не
так мясисты, лоб несколько выше, прорез глаз не столь узок, как у п6рвых. Цветом
они мало отличаются от соседних племён кочевников; но рыжие или белокурые волосы
и белый цвет лица (на основании этих признаков наши европейские ученые признают
это племя родственным с финнами и другими североалтайскими народами)
встречаются, говорить редко; по крайней мер мои кокандские друзья уверяли меня,
что на целые сотни приходится по одному или по два таких субъектов. По всем
признакам, кипчаки, о которых я упоминаю в моем «Путешествии по Средней Азии»,
ни что иное, как отрасль бурят, поселившихся в Коканде и соседних с ним
местностях и заимствовавших, как от ислама, так и от социальных отношений
Туркестана более, нежели прочие буряты. Эти последние только отчасти, вследствие
соприкосновения с калмыками и монголами, исповедуют ислам, равным образом и в
языке их больше монгольских слов, нежели в наречий кипчаков. От этого наиболее
оригинального турецкого' народа переходим ко второй отрасли — киргизам.
b)
Киргизы.
У киргиза или кайсака (как он
сам называет себя) не встречается уже монгольско-калмыцкого типа в такой
поразительной полноте его, как у бурята, хотя в язык и в образ жизни он мало
отличается от последнего. По цвету он весьма схож со всеми остальными
обитателями среднеазиатской степи. Женщины и молодежь имеют белый, часто
совершенно европейский цвет кожи, который однако, скоро теряется от постоянной
жизни на открытом воздухе, на жар и холоде. Киргизы приземисты и отличаются
плотным сложением, сильно развитыми костями и, большею частью, коротким
затылком, составляющим существенное отличие туранцев от иранцев, имеющих вообще
длинную шею; голова у них не особенно велика, темя кругло, более заострено, чем
плоско. У них менее суженные, но расходящиеся вкось, сверкающие глаза,
выдающиеся скулы, тупой круглый нос, широкий плоский лоб и подбородок более
широкий, нежели у бурят. Борода у них состоит из пучка на подбородке и из
немногих волос на обоих концах верхней губы; странно, что они сожалеют об этом
недостатке и отнюдь не находят красы в этой физиономической особенности, между
тем как выдающиеся скулы, маленькие глаза и т. д. считаются у них лучшими
украшениями лица. Так как (что замечено было нами уже выше), отличительные
признаки первобытного племени уже не встречаются у киргизов так определенно и
всецело, как у бурят и калмыков, то они видят идеал красоты только в своих
соседях, с которыми потому охотно роднятся. Левшин сделал совершенно
справедливое замечание, что они калмычкам дают предпочтете перед своими
собственными женщинами. Что при значительном расселение киргизов все нерпой
степной стран Средней Азии должны встречаться заметные между ними оттенки во
внешних признаках, это не подлежит сомнению, но легко понять, что наше
разделение киргизов на большую, малую и среднюю орду им неизвестно. Несмотря на
их различные подразделения на отрасли, семейства и линии, на которые они,
подобно туркменам, смотрят, как на резкие разграничения, все-таки их образ
жизни, нравы и обычай соединяют их в одно однородное целое. Живут ли они на
берегах Эмбы или Аральского моря, или же в окрестностях Балхаша и Алтая — в
наречиях, на которых они говорят, мало различия. Одни те же сказки и песни, а
также известные роды национальной пищи, равно как и национальные игры можно
встретить повсюду и, что особенно странно, охота к путешествиям и военные
тревоги часто сплачивали между собою самые отдаленный племена,. В одежде киргизы
отличаются от прочих кочевников и оседлых обитателей Средней Азии
преимущественно головным покровом. Мужчины носят летом войлочную шляпу, колпак,
а зимою подбитую мехом и обтянутую сукном шапку, тумак, которая сзади спускается
на затылок и уши. Кром того, они носят еще небольшой меховой колпак, корейш,
который, впрочем, они надевают только дома. Незамужние женщины носят шеёкел,
отличающийся от подобного же туркменского головного убора тем, что он имеет
более коническую форму и вуаль у него не спереди, а сзади и спускается до бедра.
Прическа также иная: молодые туркменки заплетают волосы в две большие косы, а
киргизские женщины в восемь тонких кос, спускающихся по четыре по об стороны
груди. Замужние женщины носят на голов летшек, платок, покрывающий голову и
затылок, Дома девушки обвивают вокруг головы красные носовые платки, а женщины
белые или темные. Верхняя одежда имеет такую же нелепую форму, со множеством
складок, как и везде в Средней Азии, с тем только различием, что здесь
предпочитаются более светлые и яркие цвета; в северном Коканде молодые киргизы
делают себе платье из невыделанных блестящих кож рыжих лошадей, хвосты которых
спускаются вниз с затылка в виде украшения. Относительно обуви различие состоит
только в том, что западные киргизы приняли более русскую форму сапог, а
восточные, напротив того, китайскую — именно, с острым загнутым носком и тонким
высоким каблуком. Религия у них почти у всех магометанская, хотя, как можно
заключить из социальных отношений, она там в весьма незавидном состоянии.
Впрочем, таково положение ислама почти у всех кочевников. До и спустя долго
после завоеваний арабов в Средней Азии киргизы исповедовали шаманство и не
удивительно, если при тех слабых корнях, какие учение аравийского пророка успело
пустить здесь, могло еще до сих пор удержаться столь многое из прежней веры. В
целом племени, состоящем из нескольких сот кибиток, часто бывает только один или
два человека — мулла и секретарь предводителя — могущие прочесть кое-что из
Корана и быть провозглашателями молитв и наставниками в вере. Это большею частью
плохие ученики школ трех ханств, которые из-за выгод принимают на себя службу в
степи, так как ревность к распространению учения пророка уже давно вымерла и
лучшие из них ищут мест в городах Держать муллу или ахонда — своего рода мода,
указывающая на известную степень зажиточности. Кочевник, для которого
материальное существование всего дороже, считает религию делом второстепенным.
Он называет себя магометанином, но на молитву, пост и другие религиозные
предписания обращает очень мало внимания, и нет ничего удивительного, что
суеверие, свойственное детскому возрасту всех народов, доселе здесь играет
значительную роль. Мы не станем упоминать о хиромантии, звездочетстве,
заклинании дьявола, лечении болезней дуновением и т. под. нелепостях, которые
еще в полном ходу даже ш образованных магометанских странах, например, в Персии
и Турции и встречаются местами даже в просвещенной Европе. Из киргизских
суеверий для нас всего интереснее те, которые состоят в связи с прежнею религией
этих кочевников и потому дают некоторые понятия о прежних условиях их
общественной жизни. Что у киргизов прежде были приносимы жертвы, это
доказывается существующим досели гаданиями на лопаточной кости и внутренностях
животного. Первый способ, называемый кёце-сеюги, состоит в том, что очищенную
лопатку только что убитой овцы кладут в огонь и держат ее там до тех пор пока
она совершенно не перегорит и не превратится в уголь. Затем ее вынимают из огня
и осторожно кладут на землю; тогда один из седобородых мудрецов, какими
обыкновенно считают здесь бакшей или шарлатанов (Кам), серьёзно и с важною миною
начинает рассматривать трещины обуглившейся кости. Если три главный трещины идут
параллельно к широкому концу кости, то это означает счастье, а в противоположном
случае несчастье. Последнее, конечно, случается редко, но это нисколько и не
удивительно, ибо если в Дельфах водили за нос цивилизованных греков, то почему
не быть тому же в киргизской степи? Делать предсказания по положению и сплетению
кишок — наука еще более мудреная и в ней особенно отличаются калмыки. Странно
при этом то, что к этому способу предсказаний прибегают только тогда, когда
хотят узнать пол имеющего родиться ребенка. Огонь также, должно-быть,
пользовался уважением, ибо и теперь в него во первых нельзя плевать, а во вторых
празднества и пляски вокруг огня составляют обычай, существующий еще и теперь во
многих местностях Азии, Африки и Европы, а в степях Хивы и Коканда даже сильно
распространённый. Задувать огонь считается весьма неприличным, как у киргиз, так
и у остальных среднеазиатов. Наконец по цвету пламени горящего масла, сала и т.
под. делается также весьма много предсказаний. Суеверие, особенно развитое между
женщинами, поистине стоит самого серьёзного изучения. Оно охватывает собою, как
четырехлетнюю девочку, так и старую женщину, прожившую целую жизнь в степи и
развившую все свои духовный способности единственно в этом направлении. Каждая
отдельная часть палатки, каждая домашняя утварь связаны с суеверием; суеверные
обряды строго соблюдаются, и при раскладывании палатки, и при доении скота и
варке пищи, при прядении и тканье, и даже гораздо строже, чем законы ислама, не
очень то приходящиеся по сердцу среднеазиату. Самый любимый способ гадания — это
гадание на только-что выпряденной пряже. Кладутся четыре камня — два белых и два
черных; между ними за один конец укрепляется нитка, которую за другой конец
вытягивают кверху и потом разом бросают. Если нитка упадет на черные камни, то
это означает несчастие, а если на белые — счастье. Влияние руки, натягивающей
нитку во внимание не принимается, ибо оракул должен быть непогрешимым. Это
гаданье называется иики-иип (веретенная пряжа) и в большом ходу во всей Средней
Азии. Из собственно киргизских кушаний мы назовем: 1) сюрю, состоящее из
копчёного мяса (конины или баранины), разрезанного на мелкие куски и обжаренного
в сале, и 2) Еёдже — обыкновенная пшеница, сваренная в воде и употребляемая в
пищу с кислым молоком. Достоинство первого кушанья заключается в том, что его
можно носить при себе по целым неделями и оно не подвергается порче.
Национальною игрою киргизов можно считать татджак-кизими (тиски), которая
состоит в прыганье через веревку. Удачный прыжок встречается рукоплесканиями, а
неловкого сажают между двумя скамьями и, издеваясь над ним, порядочно сжимают.
Сюда же относится игра эжекджаири (раненая ослиная спина), которая состоит в
прыгание с разбега через трех или четырех человек.
с) Каракалпаки
составляют третью отрасль
монгольско-турецкой расы и существенно разнятся от киргизов, хотя и сходны с
ними по языку и нравам. Своим высоким ростом и здоровою фигурою каракалпаки
отличаются от всех прочих племен Средней Азии. Их непропорционально большие
головы с плоским, полным лицом, большими глазами, тупым носом, несколько
выдающимися скулами, плоским мало заостренным подбородком, их безобразно
длинные, широкие руки — все это вместе вполне гармонирует со всею их вообще
неуклюжею фигурою; и насмешка соседних народов
«Karakalpak,
lüzi jalpak,
Üzi jalpak.»
(y каракалпака плоское лицо и
весь он плоский) придумана не без основания. По цвету лица они подходят более к
узбекам; в особенности их женщины долго сохраняют свой белый цвет лица и
производят довольно приятное впечатление своими большими глазами, полным лицом и
черными волосами. В Средней Азии он славятся своею красотою. Мужчины имеют
довольно густую, но короткую бороду. Каракалпаки, иногда неосновательно
причисляемые к киргизам, теперь встречаются только в Хиве, куда они переселились
в начал текущего столетия. Мулла из этого племени рассказывал мне, что они
прежде жили по берегу Яксарта и около его устьев, тогда как другая часть их
обитала по соседству с калмыками (вероятно в Семипалатинской области). Первая
часть этого сказания, по-видимому, довольно правдоподобна, потому что Левшин,
говоря о развалинах Джемкенда, замечает, что там еще в прошлом столетии жили
каракалпаки. Судя по всему, они уже давно отделились от киргизов, к которым они
всего ближе, и теперь составляют переходную ступень от киргизов к узбекам. По
своей одежде они опять скорее подходят к узбекам, чем к киргизам. Мужчины носят
большие телпеки (меховые шапки), которые сидят глубоко на затылке и покрывают
уши и лоб; женщины носят воротники, похожие на плащи, и особенно любят красные и
зеленые сапоги. Палатка у каракалпаков гораздо больше и построена бывает
прочнее, чем у прочих кочевников; охраняется она собаками очень крупной породы,
встречаемой единственно только у этого племени. Жилища их вообще отличаются от
жилищ прочих кочевников неопрятностью, пища и одежда их также обнаруживают
небрежность, навлекающую на них насмешки и отвращение соседей. К национальным
кушаньям, между прочими, принадлежать: торама, состоящее из мелко изрубленного
мяса, сваренного вместе с большим количеством лука (растения весьма ими
любимого) и муки; казанджаппай, хлеб, который пекут на сковород в сале и
считающийся лакомством; баурзак — мучное кушанье, состоящее из четырехугольных
кусочков теста, начиненных мясом. Любимые их игры: кумалак, похожая на
европейскую игру в мельницу, в которую играют с высушенным овечьим калом. Многие
любят также азартную игру ашик.
d) Туркмены,
которых я считаю четвертою
отраслью монгольско-турецкой расы в её распространении на запад, соединяют в
себе многие характеристические особенности, как киргизов, так и каракалпаков.
Чисто туркменский тип, который можно найти у текке, чаудоров и у живущих в
глубин степи иомутов, отличается средним ростом, сравнительно небольшою головою,
продолговатым черепом (это надобно приписать тому, что их в детстве кладут не в
колыбель, а в качалку, сделанную из холстины), мало выдающимися скулами,
несколько тупым носом, продолговатым подбородком, вогнутыми внутрь ногами
(вероятно вследствие частой верховой езды) и в особенности блестящими живыми
глазами, Белокурый цвет волос можно назвать преобладающим и есть даже целые
племена, как, например, племя кельте гёрген-иомутов, которые имеют совершенно
светло-русые волосы. На окраине пустыни, особенно на персидской границе, эти
главные черты, вследствие частого смешения с иранскою кровью, оказываются уже
совсем изгладившимися. Так, встречается много мужчин с густою черною бородою и
часто без малейшего следа монгольско-турецкого типа. Гёклены, например, уже
совсем похожи на персов, за исключением только формы глаз. Заметные следы
хишническаго образа жизни сохранились только главным образом у пограничных
жителей, а живущие внутри пустыни и занимающиеся скотоводством сохранили более
признаки чисто туркменского типа. Кочевники всегда вообще живее и проворнее в
своих движениях, чем их оседлые соплеменники, что разумеется должно приписать
вечному их кочеванию и жизни, исполненной всевозможных приключений; туркмены же
превосходят по этим свойствам все прочие племена Средней Азии и их худощавое
тело, закаленное лишениями, может вынести даже больше, чем организм арабов.
Вообще туркмены, не смотря на отпечаток семейного единства, представляют
странную смесь нравов и обычаев, встречающихся или только местами у соседних
кочевников и узбеков, или же только у них одних. Между тем как их язык во многом
походит на азербайджанское наречие, их обычаи носят чисто турецко-татарский
характер и как в своем общественном быту, таки в своей боевой жизни, в своих
домашних и религиозных обычаях, они имеют более общего с кипчаками (отраслью
бурят), чем с киргизами, каракалпаками и узбеками, с которыми они уже несколько
столетий находятся в постоянном соприкосновении. Не подлежит никакому сомнению,
что они весьма рано отделились от массы турецко-татарских народов. По их
собственному уверению, они двигались от востока к северо-западу, именно к южной
границе прежней золотой орды, а оттуда к югу. Это уверение представляет большую
степень вероятности: доказательством тому могут служить отдельные кучки туркмен,
оставшиеся на этом пути и находящиеся там и до сих пор. Таковыми должно считать
и туркменов на север Керминега и Самарканда, которые среди родственных элементов
остались все-таки верными своей национальности. О выселении из Мангишлака, этого
бесспорно древнейшего местопребывания туркменов, сами жители центральной Азии
говорят, что оно совершалось в следующем хронологическом порядке. Древнейшими
обитателями теперешней их отчизны называют салоров и сариков; за ними поселились
там иомуты, которые, впрочем, еще до периода Сефевидов потянулись с севера к югу
вдоль берега Каспийского моря. Текке, как гласит предание, только во время
Тимура переселились в небольшом числе в Ахаль и парализовали там силу салоров.
Эрсары, переселились из Мангишлака на берега Оксуса в конце прошлого столетия и
наконец чау доры только в недавнее время прогнаны Мехмед-Эминханом (хивинским)
с побережьев Аральского и Каспийского морей, через Оксус, но многие из их
единоплеменников и доселе находятся на прежних местах. Так как все внимание
туркменов обращено на их главное занятие — хищнические набеги, то совершенно
естественно, что многие их обычаи соответствуют этому занятию. Их одежда, хотя
первоначально заимствованная из Хивы, делается короче и уже, чтобы удобнее можно
было сидеть на лошади; тяжелая меховая шапка заменяется маленькою. Штаны у них
весьма широки и напоминают национальный костюм венгерских крестьян. Особенность
их составляют локоны, спускающиеся у молодых людей из-за ушей гораздо ниже плеч.
Их начинают отпускать еще с детского возраста; в первый год после брака их носят
спрятанными под шапкой и только по истечении первого года обрезывают. Эта
куафюра придает молодому всаднику красивый вид и он не мало гордится этим.
Костюм женщин имеет также некоторые особенности, как, например, верхнее платье с
длинными рукавами, свешивающееся подобно венгерской куртке, головной убор и
массивные серебряные украшения, как-то: браслеты, ожерелья, амулеты и т. под.
Между женщинами нередко можно встретить совершенных красавиц, не уступающих в
стройности и правильности черт грузинкам. Хотя девушки вообще у всех кочевников
довольна искусно ездят верхом, но молодые туркменки превосходят всех других в
этом искусстве. Относительно своей магометанской религиозной реальности и
наклонности к старым суевериям туркмены походят на киргизов, а так как читавшие
мое «Путешествие по Средней Азии» уже знакомы с ними, то мы и перейдем теперь к
узбекам.
е) Узбеки,
которых можно считать
оседлыми и цивилизованными обитателями Средней Азии, представляют только слабые
следы монгольско-турецкой расы вследствие сильного своего смешения с
древне-персидскими элементами тех местностей и вследствие значительного привоза
туда невольников из теперешнего Ирана. В их широком лиц о татарском
происхождении напоминает только строение лба, острый угол, образуемый висками и
в особенности глаза. Таджики всегда называют узбеков в насмешку иогум-келле,
т.е. толстоголовыми — и действительно эта часть тела у них шире, толще и
неуклюжее, чем у других туранских соплеменников их. При всей разнице, которая
замечается между узбеками, жителями трех ханств и китайской татарии, все-таки
видно, что обитатели деревень вообще представляют более признаков национального
типа, чем жители городов, так, например, хивинских узбеков всегда можно отличить
по широкому полному лицу, низкому, плоскому лбу и большому рту; бухарских — по
более выгнутому лбу, более овальному лицу и заостренному, продолговатому
подбородку и по преобладанию черных волос и глаз; наконец коканских узбеков — по
их бросающемуся в глаза сходству с киргизами. В цвете кожи есть также своего
рода оттенки. В окрестностях Кашгара и Аксу преобладающий цвет — желто-смуглый,
доходящий до черноватого, в Коканде — смуглый, в Хиве — белый. Узбеки
представляют в той же мер помесь туранской расы, в какой таджики и сарты
(первоначальные обитатели древней Транс-Оксании, Согдианы и Ферганы) считаются
помесью иранской породы. О происхождении, переселении и расселении узбеков мы
имеем немного сведений и притом в высшей степени запутанных. Между тем, как одни
утверждают, что узбек было имя одного из знаменитейших их князей, управлявшего
всею степью во время Чингис-Хана; другие, обращаясь к этимологическому значению
слова узбек (собственный принц, вождь) видят в нем самостоятельность, которою
отличалось это племя, отложившееся от какого-нибудь властителя и само по себе
предпринявшее завоевательное шествие к западу. На сцене среднеазиатских событий
это имя выступает на передний план вместе с домом Шеибани, именно с его
основателем, Эбуль-Хеир-ханом, ибо хотя Тимур и принадлежал к этому же племени,
но при нем более возвысились турки, чем узбеки. Если я не ошибаюсь, племя
теперешних узбеков во время своего поселения было весьма малочисленно и возросло
только тогда, когда воплотило в себя племена других кочевников, тянувшихся с
севера к югу. Эхо мнение хотя и смело, но его несколько оправдывают следующие
обстоятельства: 1) уже упомянутая выше разница между туркестанскими узбеками, от
Комула до Аральского моря, и некоторое сходство их с живущими по соседству
кочевниками, которые в силу известных обстоятельств поселились в городах и
слились с узбеками; 2) многие имена родов и фамилий узбеков общи и другим
племенам Средней Азии. Так, например, названия племен: кунграт, кипчак, найман,
тац, канджигали, капли, джелаир, к которым принадлежат все главные подразделения
узбеков, встречаются также у киргизов, а иные даже у туркменов и каракалпаков,
чего при той важности, какую придают кочевники своим родовым названиям, конечно
не было бы, если бы ранее не существовало между ними какой-нибудь связи. О
времени поселения узбеков нам известно столь же мало, сколько и о происхождении
их. Хотя и справедливо мнение персидских историков, что могущество узбеков
возникло только на развалинах могущества тимуридов, но дела это нисколько не
уясняет, ибо из этого видно только, когда имя их выступило впервые на передний
план, а кто может нам сказать, к какому племени относило себя то турецкое
население, которое оселось в трех ханствах задолго до Тимура и Чингис-Хана, в
период Харезмийцев (князей, то есть Шахихарезмиан), — стало быть уже в 13 веке?
В Хиве я часто слыхал, что блестящий период древнего Юргенджа, а именно до
вторжения монголов, считают периодом узбекским. Было ли это просто национальным
тщеславием, или же действительно тогдашние турки в Хиве назывались узбеками?
Турки уже во время арабского завоевания, как видно из древнейшей истории Бухары,
жили (во времена Caманидов) хотя и не в средине Персии, но верно по близости
древнеперсидских городов, и было бы весьма интересно узнать, к какому
принадлежали они племени. В обычаи узбеков вошло также много чуждого, особенно
вследствие влияния ислама и кочевого образа жизни, но далеко однако же не так
много, как у западных турок, которые, под влиянием чуждых, усвоенных ими
элементов, совершенно утратили свою национальность. Узбеки благочестивые — даже,
можно сказать, ревностные мусульмане. Наклонность к аскетической жизни, исключая
Кашмира, нигде не развилась в такой степени, как у них; третья часть городских
жителей — или ишаны, или халфы, или софи, или кандидаты на эти священные титулы,
и однако учение Магомета, сравнительно, очень мало имело влияния на тамошние
нравы. В Хиве и некоторых местностях китайской Татарии жители остались более
других верны своим старым кочевническим обычаям. У них есть постройки, но только
для конюшен и амбаров; для жилья же все предпочитают раскинутую на дворе
палатку. Истый узбек смеется над постройкой прочных жилищ, как над обычаем,
существующим только у сартов (первобытных жителей Персии). На счет последних там
даже сложилась пословица: «Sart bajsa tarn salar» (когда сарт богатеет, он
тотчас строит себе дом), узбек же предпочитает в этом случае приобрести себе
лошадей или оружие. Точно также в пищи в одежде, исключая главных городов,
весьма мало заметно улучшений. Тогда как в городах гаремная жизнь во всей силе,
— вне городов все женщины ходят с непокрытым лицом и, к величайшей досад мулл,
долго не поддаются противоестественным стеснениям. Церемонии при похоронах,
свадьбах, родинах заключают в себе много такого, что не только чуждо исламу, но
и положительно запрещено им, и эти уклонения составляют резкий контраст с
чрезмерно развитыми религиозными наклонностями большей части остальных
среднеазиатов. Не менее заслуживает нашего внимания и то, что узбеки до сих пор
твердо сохраняют воинственный свой характер, чем отличаются от прочих оседших
народностей средней и западной Азии. Земледелие и прочные жилища обыкновенно
располагают к мирной жизни, но только не узбеков, которые своею храбростью
превосходят даже всех прочих кочевников.
Б) ХАРАКТЕРИСТИКА.
Как ни велико пространство,
на котором раскинулись различные отрасли турецкого племени, как ни разнообразно
действовало всегда на их социальные условия влияние чуждых элементов, однако, не
смотря на все это, у них нельзя не видеть общих черт характера, в которых
замечается более следов сходства, чем в чертах лица и других физических
признаках. Турок вообще тяжел и неповоротлив, как умственно, так и Физически, а
потому тверд и настойчив в своих решениях, но не по принципу жизненной
философии, а по апатии и открытому отвращению ко всему, что выводит его из раз
принятого им положения. Это-то собственно и придает ему тот серьёзный и
торжественный вид, который так часто восхваляется европейскими
путешественниками. Подобно тому как на берегу Босфора османли по целым часам
может наслаждаться кейфованием, вперив взоры в лазурное небо и делая при этом
одно только движение, т, е. пуская из своей трубки синие клубы дыма к еще более
синему небу, точно можно видеть узбека или киргиза неподвижно сидящим по целым
часам в узкой палатке или в необозримо широкой пустыне: в первом случае его взор
блуждает по виденным уже тысячу раз краскам войлочных покрывал или ковров; в
последнем его восхищает волнообразная поверхность летучего песка. Османли
сожалеет о всяком, кто ходит живо и бодро, быстро говорит или, пожалуй, еще
размахивает руками, как о полусумасшедшем или несчастном — узбек, в свою
очередь, считает в высшей степени неприличным всякое быстрое движение рук и ног.
Когда я раз убеждал одного моего спутника татарина отскочить в сторону, чтобы
спастись от падавших тюков с товарами, он, обиженный, закричал мне: «Разве я
женщина, чтобы позорить себя прыжками или пляской?» Вместе с этой глубокой
серьёзностью и холодным, как мрамор, выражением лица, мы всюду находим у турок
сильную склонность к тщеславию и похвальбе, но они никогда не доходят до
хвастовства или фанфаронства персов, В Константинополе часто слышишь пословицу:
«рассудительность свойственна Европе, богатство — Индии, а роскошь— оттоманам.»
Торжественные поезды (алай) султана и вельмож известны на восток и западе, но ту
величественность, которую все обыкновенно стараются напускать на себя в таких
случаях, вы нигде не встретите в такой полноте, как только у племен, обитающих в
Средней Азии. Узбек или туркмен, сидит ли он на лошади, или в палатке во главе
своего семейства, принимает ту же гордую осанку, в нем проглядывает то же
сознание своего величия и могущества. Он твердо убежден, что он рожден для
господства, а соседние народы — для повиновения, точно также, как османли думает
о божгарах, армянах, курдах и арабах. Его любовь к независимости безгранична и
составляет главную причину того, что он не может долго оставаться под властью
даже очень любимого вождя и скорее будет самостоятельно начальствовать над 10-ю
или 20-ю бедными хищниками или искателями приключений, чем станет во главе
хорошо снаряжённого отряда, который, кроме него, имеет еще другого высшего
начальника. Дикая, необузданная гордость, высокое аристократическое чувство
турко-татар во все времена, во всех отношениях должно было глубоко оскорблять
всех, кто почему либо приходил с ними в соприкосновение. Поведение османли в
отношениях с его подчиненными, прежними обладателями Турции, находит себе верное
изображение в образе действий узбеков по отношению к таджикам прежним владыкам
Туркестана. Таджик сделалось выражением насмешки или сострадания, и узбекский
двор Бухары, хотя и пользующийся религиозным почтением, подвергнется насмешкам,
как таджик вследствие преобладания в нем иранского духа. С этой чертой характера
совершенно гармонирует также любовь турок к покою и праздности, ибо хотя
прилежания и деятельности, по нашим европейским понятиям, нельзя нигде встретить
в Азии, но ни у иранских, ни у семитических народов труд не находится в таком
пренебрежении, как у турок, которые считают достойным мужчины только охоту и
войну; земледелием они занимаются лишь по принуждению, а все остальное считают
для себя постыдным. Поэтому Турция никогда и не отличалась особенным
благосостоянием. Тамошний крестьянин был всегда ленив и беспечен, число
ремесленников всегда ограниченно, а класс чиновников богател только тогда, когда
орды янычар возвращались домой из своих разбойничьих набегов, нагруженный
сокровищами. Поэтому в Средней Азии земледелие находится исключительно в руках и
персидских рабов, торговлею и ремеслами занимаются таджики, индусы и евреи: даже
узбеки, которые сделались оседлыми уже несколько веков тому назад, — и те
постоянно только думают о хищничестве и войне и если не находят какого-нибудь
чужеземного врага, то заводят кровопролитные войны между собою. В отношении
умственных способностей я заметил, что турки везде далеко уступают другим
азиатским народностям, в особенности иранским и семитическим, и что они
вследствие умственной своей ограниченности теряют те выгоды, который могли бы им
доставить другие их достоинства. Это слабоумие обозначается словом тюрклюк
(туречество), синонимами которого служат слова кабалик (грубость) и иогунлюк
(толстота). Под словом тюрклюк разумеют также неловкость и грубость манер. Все
эти названия, иногда заменяемые из учтивости словом саделик (простота),
прилагаются к имени турок, как ругательные эпитеты. Как турка (османли)
перехитряют армяне, греки и арабы, так узбека перехитряет ловкий, увертливый
таджик и столь же хитрый, как и корыстолюбивый индус. Трудно решить, следует ли
приписать это национальному недостатку или крайней беспечности, но в высшей
степени замечательно, что турок, как на далеком востоке, так и в соседств с
цивилизованным западом, не любит мыслить и что его суждения нигде не считаются
проявлениями особенно блестящего ума. Но в то же время недостаток этот, с другой
стороны, ведет к тому, что у турок вы встретите более честности, откровенности и
правдивости, чем у всех других народов Азии. Тюрклюк, под которым чужестранцы
разумеют вышеупомянутые недостатки, служит у самих турок чисто для обозначения
простоты и прямодушия. Темные и светлые стороны слова «тюрклюк» замечены уже с
древних времен и об них не мало было говорено при проведении параллели между
характером турок и других наций, преимущественно персов. Последних часто хвалят
за их остроумие и изящные манеры, но тот, кто ищет верного служителя, преданную
армию, или надёжного человека всегда отдаст предпочтете туркам. Поэтому мы
видим, что уже в древнейшие времена иностранные властители часто пользовались
турецким войском, призывали его в свои государства и давали вождям его высшие
должности, а так как храбрость, настойчивость и властолюбие все-таки свойственны
более им, нежели другим народам Азии, то легко объяснить, почему они наемников
скоро делались повелителями и подчинили своей власти многие другие народы
иранского и семитического происхождения, начиная от своей первоначальной родины
до Адриатики, и владычествуют над многими из них до сих пор. По моему мнению,
турецкие династии удержались на чужеземных престолах не столько вследствие
физического своего превосходства, сколько благодаря преимуществам их народного
характера. Они грубы и дики, но редко бывают свирепы и злы; они, правда,
обогащаются на счет своих подданных, но снова великодушно делят между ними
собранный сокровища; они строги к своим подчиненным, но редко забывают и
обязанности, лежащие на них, как на патриархальных главах, в отношении к их
подданным. Одним словом, во всем образе действий турок замечается какое-то
добродушие, которое, может быть, должно приписать скорее их беспечности и
laisssr-aller, чем ясно сознанному намерению делать добро, но которое, из какого
бы источника оно ни происходило, все-таки действует, как добродетель. В
заключение упомянем еще о гостеприимстве, которое у турок развито более, чем у
иранских и семитических народов и притом по весьма простой причине.
Гостеприимство, как известно, уменьшается по мере того, как народ переходит от
кочевой жизни к оседлой, и как в этой добродетели Азия вообще превосходит
Европу, так точно и турки, как коренные кочевники, гостеприимнее прочих азиат,
которые, ранее их сделавшись оседлыми, уже давно пользуются плодами древней
цивилизации. Заметка моя не что иное, как слабая попытка представить общую
характеристику турок. Что касается оттенков между различными племенами, то мы
находим, что буряты более дики и грубы, чем остальные кочевники, их
соплеменники. Они более суеверны, но за то менее коварны, чем, например, киргизы
и туркмены, потому что, не отрешившись вполне от шаманства, они еще мало знакомы
с исламом, а всем известно, что чем слабее понятия кочевого народа о религии,
тем менее в нем нравственных недостатков и тем гостеприимнее он по отношению к
чужестранцам. Киргизы, напротив, в сущности гораздо менее воинственны, хотя
легко решаются на баранту (хищнический набег). Они составляют главное ядро
турецких кочевников, всех более склонны к кочевой жизни и в то время как
туркмены во многих местах находятся уже в полуоседлом состоянии, как, напр., по
левому берегу Оксуса от Белха до Чардшуя и в Хиве, — у киргизов доселе можно
указать еще весьма немного примеров подобного образа жизни. Покорить их легче,
чем других кочевников, потому что они, как уже сказано выше, миролюбивы и не так
храбры, но их колонизирование, кажется, почти невозможно; по крайней мере России
оно будет стоить громадного труда, в случае, если она примется за это дело.
Каракалпаков, по их бросающейся в глаза простоте, считают вообще глупыми и
неуклюжими. Они представляют собою идиотов между народами Средней Азии и об них
рассказывают очень много анекдотов. В храбрости они уступают даже киргизам; они
редко являлись завоевателями, редко употребляются даже в качеств вспомогательных
войск другими народами. Так как они главным образом занимаются скотоводством и
всего более любят держаться в лесистых местностях, то узбеки назвали их в
насмешку айиками (медведями), но, тем не менее за ними всюду признают
деятельность, добросердечие и верность. Туркмены слывут самыми беспокойными
искателями приключений из всех народов Сред ней Азии — и эта совершенно верно,
ибо не только там, но и на всем земном шаре едва ли можно найти другой народ,
обладающий такою хищническою натурою, таким беспокойным духом и такою
необузданною любовью к свободе, как эти дети пустыни. Грабить, делать набеги,
брать в рабство — по их понятиям ремесло очень честное и они занимаются пм уже
несколько веков. Всех думающих иначе туркмены считают глупцами и сумасшедшими, и
до того преданы своей страсти, что начинают грабить в своем собственном племени
и часто даже в собственном семействе, если нельзя делать набегов на чужие
страны. Весьма слабым извинением этой страсти может служить разве то только, что
они живут в самых диких и пустынных местностях, где даже скотоводство приносит
весьма скудный доход; между тем плоды их гнусного занятия почти никогда не
уменьшают их тяжкой бедности, потому что они так же скупы, как и корыстолюбивы и
часто при богатств выносят страшную нужду наравне с самыми бедными. Узбеки
играют роль фешенеблей между своими соплеменниками в Туркестане. Они не мало
гордятся своим образованием, полученным благодаря исламистской цивилизаций, и,
основываясь на этом превосходстве, хотят владычествовать над кочевыми своими
собратьями. В высшей степени похвально в них то, что они упорно держатся многих
прекрасных качеств своего национального характера, который в других местах так
легко изменяется исламом. У узбеков, не смотря на лицемерство и кажущуюся
набожность, все еще встречается весьма много честности, прямодушия и турецкой
откровенности. Этим они резко отличаются от испорченных и порочных таджиков и
потому действительно достойны владычествовать над ними. Узбек, на сколько
показали мне личные мои наблюдения, единственный турок от Китая до Дуная,
представляющий собою все светлые стороны своего национального характера.
2) Иранцы.
Как туранский народ, а в
особенности турецко-татарские племена, прославился в древности своею
воинственностью и дикою, необузданною грубостью нравов, так иранцы, в
противоположность к ним, были известны искони своими более уточенными нравами и
блестящим состоянием своей культуры. Первые всегда являлись перед своими
соседями в качестве опустошителей и грабителей, последние, напротив, в качеств
цивилизаторов, распространителей искусств и лучших социальных условий. Иранскую
культуру принял не только весь магометанский восток, но даже и мы, европейцы,
многое заимствовали у этого замечательного народа, и это многое дошло до нас
частью путем древнегреческой и византийской образованности, частью путем
позднейших сношений запада с востоком, как, напр., во время крестовых походов.
Иран искони был средоточием образованности и во всей истории человеческой
культуры мы напрасно станем искать народа, который, не смотря на разнообразные
политические перевороты, не смотря на частые чужеземные влияния, так долго и
верно сохранил бы древний дух своей цивилизации и характер своей национальной
жизни, как иранцы. Велика разница между учением Зороастра и учением арабского
пророка, и однако в теперешней Персии можно найти почти все черты того
характера, который придавали греческие историки древним персам. При беглом,
поверхностном взгляде это не так скоро бросается в глаза, потому что по
наружному виду трудно отыскать истого иранца между кучею народностей теперешнего
Ирана; но более серьезный, глубокий взгляд скоро убедит нас в истине сказанного
и мы увидим, что иранцы не только не заимствовали ничего из нравов и образа
мыслей семитических и туранских элементов, в течении слишком тысячи лет
грозивших иранским национальностям, но скорее даже сами оказали сильное влияние
на эти элементы. Колыбелью иранского народа, как утверждают новейшие этнографы,
особенно же русский путешественник Ханыков в своем «Mémoire sur Fethnographie de
la Perse», должно считать восточную часть теперешней Персии и преимущественно
южный Сигистан, или Систан, и простирающихся на северо-восток Хорассан. С этим
мнением согласна не одна только этнография, но и история, ибо, как Сигистан,
родина Рустема и других иранских героев классической древности, даже и
теперешними сказочниками избирается поприщем деятельности, как скоро они хотят
описать какие-нибудь древние геройские подвиги, так в Хорассан древний Белх
считается первым источником религии и образованности; Мерв же называется местом,
где Адам получил от ангелов первые наставления в земледелии. Одним словом, все,
что относится к самой глубокой древности, должно искать только на востоке, а
никак не на западе. Туранская раса, при своем расселении, как замечено в
предыдущем отделе, приняла направление с востока на запад, иранская же
распространилась с юга на север и притом в двух направлениях — к северо-востоку
и к северо-западу. Переселение совершилось в той глубокой древности, о которой
мы едва имеем понятие, но и здесь есть черты общего типа, которые, подобно
путеводным звездам, руководят нами, через мрак неведения. Хотя иранская раса в
новейшее время очень много потерпела от увеличившихся в численности
турецко-татарских народностей, но, тем не менее, в разбросанных её группах
можно различить отдельные звенья прежней цепи и в восточных её остатках
распознать первобытного, истого иранца, а в западных — мидийца, постоянно
соприкасавшегося с туранско-семитическими элементами. Этот взгляд, основанный на
личном моем убеждении, с которым впрочем согласится всякий, серьёзно наблюдавший
персов теперешнего Ирана и Средней Азии, находит себе подтверждение в научных
исследованиях ученых, разбиравших клинообразные письмена, в особенности же в
иранском перечислении народов на клинообразных надписях Персеполя: там
пересчитываются все народы Ирана, исходя именно от центра государства
(Персеполя) и переходя потом к западу и востоку. Разумеется, там нельзя найти
никаких положительных данных о большей или меньшей древности, о физиономических
различиях тех или других отраслей этого семейства, но едва ли остается место
сомнению в том, что существенная разница между ними была даже еще в самой
глубокой древности. «В западном Иране», говорит Ф. Шпигель«семитическое влияние
начинается уже весьма рано, во время ассирийско-вавилонского царства, и
продолжается во весь период ахеменидов. После падения царства ахеменидов наряду
с семитами выступает еще смешение с греками и т дaл., и это замечание совершенно
верно, потому что в южных провинциях Фарсистана, Ларистана и Луристина, где
иранские и семитические элементы с древнейших времен соприкасались между собою,
мы находим в лице современного перса все те физические признаки, которые были
замечены у этого народа Геродотом и позднейшими греческими историками. Худощавая
фигура, более свойственная западным, чем восточным иранцам, сильно напоминает
главную черту араба, которого несемиотические народы всегда представляют тощим,
стройным (нагиф), тогда как турка считают неуклюжим, толстым (кезиф), а истого
перса благородным, изящным (цариф). Семитические элементы оставили весьма
заметные следы на южной и восточной окраин Персии, начиная от Бендер-Бушира до
Кирманшаха, в особенности у городских жителей, что еще более бросится в глаза,
если мы сравним физиономию и рост сигистанца с физиономией и ростом испаганца.
Всего яснее можно видеть это на гебрах (огнепоклонниках), живущих между
западными иранцами и весьма от них отличающихся. Между ними не замечается
преобладания вообще стройных, худощавых форм и очень редко встречаются острый
подбородок и тонкий нос. Гебры в обществе хафизов не так поражают своею фигурою,
как среди грубых испаганцеву а так как они, в небольшом числе рассеянные на
запад Ирана, могут считаться остатками иранского первобытного народа, более всех
уцелевшими от примеси чуждых элементов, то с достоверности можно утверждать, что
физиономическая разница между восточными иранцами существовала и должна была
существовать уже издревле. Греческие историки, описавшие нам походы Александра и
имевшие случай познакомиться, как с восточными, так и с западными народами
тогдашнего, еще большого, иранского царства, оставили совершенно без внимания
этнографическую сторону вопроса, которая весьма важна для наших исследований. Из
скульптурных изображений, принадлежащих периоду сассанидов, мы можем извлечь
тоже весьма мало поучительного. Фигуры на барельефах Накши-Рустема,
Накши-Редшеба и из окрестностей Хацеруна хотя п могут служить верными
образчиками тогдашних персов, но об национальности их они не сообщают никаких
точных указаний. Между тем, насколько можно судить по росту и чертам лица этих
фигур, они, кажется, скорее принадлежат западным, чем восточным иранцам потому
что поразительное сходство их с теперешними жителями западного Ирана невольно
бросается каждому в глаза. Так, мы находим, что Гарсиа-СильваФиджера,
посетивший в 1624 году Персию с дипломатическою миссией, обращает наше внимание
на различие между восточными и западными иранцами не разбирая однако же их
отдельных физических признаков. Шарден, объехавший эту страну в 1664—1677 годах,
уже высказывается гораздо яснее, говоря, что гебры, в которых он видит остаток
древних персов, имеют отвратительную наружность, неуклюжую фигуру, грубую кожу и
темный цвет лица и составляют положительный контраст с теперешними жителями
западного Ирана, смешавшимися с черкесскою и грузинскою кровью. Это мнение еще
положительнее высказывает Петр Лаброс (Angelus), современник Шардена, в своем
(напечатанном в 1684 году) сочинении «Gazophylad u m linguae Persarun»), в
статье «Грузия»)). Итак, если не может быть сомнения в разнице между западными и
восточными иранцами, пред ставим теперь в общих чертах все те стороны, в которых
именно существует эта разница, и потом укажем на отдельные отрасли или члены
двух главных семейств в том виде, в каком мы имели случай видеть их во время
нашего путешествия, не упуская при этом, однако, из вида и замечаний наших
предшественников.
|
|
Западные иранцы |
Восточные иранцы |
|
Фигура |
В большинстве случаев
хотя и не стройная, но худощавая, подвижная и также редко совсем тощая
или очень жирная, как высокая или очень низкая. |
Несколько плотнее, с
более крепкими и широкими костями, неуклюжая и тяжелая в движениях, хотя
далеко и не в такой степени, как у туранцев.
|
|
Голова |
Овальный, узкий и
невысокий лоб, на висках сплющенный и продолговатый череп, подбородок
узкий. |
Гораздо менее
овальный, и даже почти круглый, широкий лоб, более широкие скулы и более
мясистые щеки. Подбородок продолговато круглый и менее заостренный, чем
у туранцев. |
|
Глаза |
Большие, черные с
длинною верхнею веком и дугообразными бровями. |
Черные, с
продолговатым разрезом и густыми широкими бровями.. |
|
Нос |
Длинный, тонкий,
часто крючковатый. |
Не так длинный,
иногда с толстым основанием, но ни в каком случае не такой тупой и
широкий, как у туранцев. |
|
Рот |
Пропорциональный, с
заметно тонкими губами. |
Часто широкие и
толстые губы. |
|
Волосы |
Черные, густые и
длинные, особенно длинная, редкая борода |
Черные и густые.
Борода гуще, но не так длинна, как у западных иранцев |
Вследствие такого различия
физических внешних признаков нельзя не признать разницы и в нравственных
свойствах двух этих семейств. Так, восточный иранец хотя и стоит выше турка по
подвижности ума и тела, но далеко уступает персу теперешнего Ирана. В симметрии
конечностей и нежных чертах западного иранца как бы отпечатлелось и духовное его
превосходство.
Восточные иранцы по
географическому своему положению и расселению к северо-востоку, кажется, могут
быть разделены на следующие отрасли: а) сейистанцев или хафизов, в) чихар
аймаков, е) таджиков и сартов. Каждая из отраслей распадается еще на несколько
подразделений или членов. Как у туранской расы по мере приближения её к западу
все более и более теряется монгольской характер физиономии и замечается все
резче и резче смешение рас, так точно и восточные иранцы по мере удаления от
древнего своего отечества все менее и менее делаются иранцами и становятся
туранцами. Какое отношение существует между бурятом и анатолийцем, такое точно
замечается между сеистанцем и кашгарским таджиком. Последний хотя и может быть
назван древним обитателем той страны, но никто не станет отрицать, что на него
сильно повлияли окружающие его туранские элементы.
а) Сеистанцы или хафизы.
Так называется то шиитское
население восточного Ирана, которое живет в восточной части страны, от южных
границ теперешнего Хорассана до Бирдшана. Их чаще называют хафизами, чем
сеистанцами, так как главная их масса находится в Хафе и его окрестностях: в
Руи, Теббесе и Бирдшане: по древне классическому же Сеистану теперь бродят более
орды афганцев и белуджей, а для мирных персов он представляет весьма ненадежное
и небезопасное местопребывание. Судя по известному в истории Мерву, который, под
именем Мурн, занимает третье место между перечисляемыми в Вендидаде 13-ю
местностями, легко можно было бы заключить, что обитатели теперешнего Хорассана,
в особенности северной его части, также причислялись к восточным иранцам.
Разумеется, до арабского завоевания это более или менее так и было, но теперь
хорассанцы до того перемешались с турецко-татарскими элементами, что чистый
восточноиранский тип начинается только по ту сторону южной горной цепи, позади
Шери-Но. Путешественник, даже не имеющий особой этнографической подготовки,
тотчас заметит, что хафиз (удерживаем название, употребляемое в самой стране)
хотя и имеет коричневый цвет кожи, но отличается, например, от испаганца тем,
что его цвет более оливково-коричневый, тогда как последний от солнечного зноя
представляется более темно-коричневым. Во вторых, ему бросится в глаза
вышеупомянутая разница в рост и чертах лица, и особенно меньшая степень блеска в
глазах; а в третьих, он не заметит в его обращении той живости и подвижности,
которую он всюду встречает у западного иранца, живущего под одинаковыми
климатическими условиями. Едва ли можно сомневаться в том, что эта разница между
такими народностями, которые имеют общее происхождение, одинаковый язык и
религию и живут несколько веков — и даже не одно тысячелетие — в одном и том же
политическом союзе, удивит весьма многих. Это обстоятельство трудно объяснить
даже и каким-либо аналогическим случаем в других странах, но мы тотчас же узнаем
его причины, если обратим внимание на следующие об строительства: 1) упомянутая
часть восточного Ирана с издревле избавилась от переселений семитических и
туранских народов, так как первые дошли только до западной окраины пустыни, а
последние редко уклонялись в своем движении на запад от главного пути через
Мерв, Нишабур и Рей и перешли через южные склоны джагатайских гор; 2) восточный
Иран даже в новейшее время, когда шиитская секта плотнее объединила персидское
население Ирана, остался отделенным от последнего великою пустынею и, не смотря
на самую дикую ненависть к суннитам, теперешние его сношения с суннитскими
афганцами и гератцами гораздо теснее, чем с западными его собратьями. Не смотря
на все трудности пути через пустыню, несмотря на весь страх к белуджам, ежегодно
отправляется по несколько караванов из Шираза и Испагани через Иецд и Теббес в
священный Мешхед, но при этом лежащие к юго-востоку Хаф и Бирдшан остаются в
стороне; так делается это теперь, так это было и в прежние времена. При взаимных
сношениях народов влиянию чуждых элементов бесспорно подвергается всего легче
язык и он же всего долее удерживает это влияние. Персидское наречие теперешнего
Ирана переполнено арабско-турецкими словами. В южном Фарсе и северном Мазендеран
в этом отношении замечается небольшая разница; напротив же, на востоке Ирана
иностранных слов встречается меньше, и мы находим там тот персидский язык, на
котором Фирдуси, умышленно избегая арабский, написал свою эпопею. Что касается
употребления древних форм и слов, то в этом отношении первое место принадлежит
персидскому наречию Бухары и особенно таджиков, но последние заимствовали
слишком много слов и грамматических форм из турецкого языка, а это
обстоятельство укореняет в нас убеждение, что на восток Ирана говорят самым
чистым и древнейшим персидским языком. Поэтому, что касается языка, то я готов
признать хафизов и сеистанцев первобытными обитателями Ирана; в отношении же
этнографического положения последних в сред всего иранского племени, я никак не
решусь приписать им той роли, какую занимают буряты по отношению ко всему
турецко-татарскому племени. Какая ветвь восточно-иранского семейства самая
первобытная — это такой вопрос, важность которого никто не станет оспаривать, но
отвечать на него гораздо труднее, чем на подобный же вопрос относительно
турко-татар. Появление последних на поприще всемирной истории сравнительно
недавнее, тогда как первые выступили на это поприще в тои периоде, о котором мы
почти не имеем понятия. Поэтому повторим ещё раз, что сеистанцев или хафизов
можно поставить на первое место между восточными иранцами, но только по их
географическому положению, а не вследствие каких-либо наведений о большей
первобытности характера их племени.
b)
Чихар-Аймаки
Чихар-Аймак — имя
собирательное, которым монголы во время покорения Герата назвали четыре
народности или племени, а именно: тимуров, тейменов, фируцкухов и джемшидов. Все
эти племена иранского происхождения и говорить персидским языком, и их должно
различать от хезарехов которые, хотя и говорят по-персидски, но имеют чисто
монгольской тип и туранское происхождение. Об имени чихар-аймак даже туземцы
имеют сбивчивое понятие: многие присваивают его себе, а другие отвергают за ними
это право; точно также и наши путешественники сообщали самые противоречивые
сведения об этих племенах. Всего же чаще встречается то ошибочное мнение, что к
чихар-аймакам должно причислять и хезарехов, которые, однако, явились в южной
части Средней Азии только тогда, когда чихар-аймаками назывались уже четыре
племени. Я, во время шестинедельного пребывания в город и окрестностях Герата,
обратил особенное внимание на этот вопрос. Мои сведения основываются не столько
на показаниях самих племен, сколько на их физиономических признаках, которые
бесспорно составляют лучшее доказательство. Тимуры, или суннитские персы
восточного Ирана, живут в настоящее время частью в западных пограничных
местностях Герата, как, напр., в Гуриане, Кухсуне и т. дал., частью же в лежащих
к востоку пограничных деревнях и городах Ирана, начиная от Турбети-Шейх-Джама и
до Хафа. В первой из названных местностей они составляют исключительное
население, а в последней встречаются только спорадически, ибо хотя 200 лет тому
назад сунниты и тимуры составляли большинство, но религиозная ненависть шиитов
частью насильственно обратила их к своему учению, частью же вытеснила в соседний
суннитский Герат. При частых пограничных сумятицах, при сорока слишком осадах,
которые пришлось выдержать Герату в древние и более новые времена, очень
понятно, какое смешение должно было вызвать это постоянное движение в различных
отраслях столь близко родственных между собою восточных иранцев; в самом деле,
можно на звать чудом, что тимуров еще можно отличить от шиитских восточных
иранцев. Отличительным признаком здесь служит, во-первых, то, что между ними
можно встретить более людей с короткою и широкою фигурою, чем между сеистанцами.
Точно также, что касается цвета кожи, — последние имеют большею частью
оливково-коричневый цвет лица и черные волосы, тогда как у первых нередко
попадается и беловатый цвет лица и каштановые волосы. Теперь, как сказано выше,
все число тимуров на границ восточного Ирана простирается, по большей мере, до
1,000 семейств, ибо большая масса их живет в Герате. Теймены, почти ни чем не
отличающиеся от тимуров, живут в северной и южной части так называемого
Джёлгей-Герата, начиная от Керрука до Себцевара. Только небольшая часть их
расселилась далее до Ферраха и афганцы называют этих последних парсиванами (fars
zeban, т. е. говорящий по-персидски). С тех пор, как афганское владычество
укоренилось в западных долинах паропамисских гор сделано было несколько попыток
основать здесь, среди персидского населения, афганские колонии, но все они до
сих пор не удались потому что несогласия и раздоры, несколько веков опустошавшие
эту страну, все еще продолжаются, так как каждый чихар-аймак считает афганцев
величайшими своими врагами. Вследствие такого положения дел тейменцы, хотя они
собственно народ земледельческий, отличаются диким, воинственным характером и
совершенно утратили даже последние следы того научного духа, который одушевлял
их во времена Тимуридов, в особенности же при султане Гуссейн-Мирзе. Суннитские
персы тогдашнего времени соперничали в поэзии, науке и музык с своими шиитскими
соплеменниками на западе; теперь же они грубые варвары в сравнении с последними.
Фируцкухами называется тот
небольшой народец, который живет на крутых горах к северо-востоку от Кале Но и
из этих почти недоступных жилищ грабит и опустошает окрестности. Путешественнику
показывают из Кале-Но эти горные вершины и рассказывают ужаснейшие об них
истории; укреплённыя местности Дерзи-Куч и Чексеран считаются такими же
разбойничьими гнездами, как и притоны бахтиарисов около Лури, в окрестностях
Испагани. Как все горные жители отличаются от своих ближайших соплеменников,
живущих в равнинах, так и фируцкухи отличаются от прочих аймаков: их можно
назвать гилеками и мазендеранцами восточного Ирана. С первого взгляда они
представляют большое сходство с хезарехами; в Герат утверждают даже, что они
суть отделившиеся от них отрасли, но ни строение лба и подбородка, ни цвет и
форма тела не имеют чисто туранскаго характера и хотя фируцкухи сильно смешались
с другими племенами, тем не менее иранский элемент в них является преобладающим,
ибо, кроме того, что они говорят по-персидски, даже все их места поселения и
ханы называются чисто персидскими именами. Они живут в этих горах с незапамятных
времен и хотя Тимур насильственно переселил их в Мазендеран, но они снова
возвратились скоро в свое старое гористое отечество и с тех пор живут в
постоянной вражде со своими соседями, занимаются частью скотоводством и
земледелием, а частью грабежом и разбоями, нападая на караваны на пути их в
Йемене, или же на отдельные группы палаток джемшидов. Все число их теперь едва
доходит до 8,000 семейств. Джемшиды в настоящее время единственное между
восточными иранцами кочующее племя в полном смысл этого слова; они живут с
древнейших времен по берегу Мургаба, куда, по их собственным словам, пришли из
Сеистана, во время Джемшида, от племени которого они себя и производят. Этого
национального мифа не надо принимать буквально, но нельзя отрицать, что между
всеми иранцами, живущими теперь в Средней Азии, джемшиды представляют самое
поразительное сходство с сеистанцами: это тем более удивительно, что последние
так же давно ведут оседлую жизнь, как те кочевую, а едва ли нужно говорить о
том, какое вообще сильное влияние оказывает различие этих двух образов жизни на
физическое развитие организма. Г. Ханыков находит что они стоят ближе к
таджикам, но я не согласен с этим взглядом, во первых потому, что джемшиды имеют
более стройную фигуру, во вторых — более продолговатое лицо и гораздо более
острый подбородок, чем таджики, а в третьих, потому что язык их, как по формам,
так и по богатству слов, гораздо более подходит к персидскому наречию восточного
Ирана, чем к наречию Средней Азии, Что касается до образа жизни; то джемшиды
единственные из обитателей Ирана, заимствовавшие очень многое у туранцев, в
особенности у соседних салор и сарик-туркменов. Между тем, как другие
полукочевые аймаки употребляют продолговатые афганские палатки, носящие название
шатров Авраама, у джемшидов он имеют, как у татар, круглую, коническую Форму и
обиты войлоком и тростниковыми циновками; одежда и пища джемшидов также
туркменские; даже в своих занятиях они подражают туркменам: как только средства
позволяют им завести достаточное число лошадей и оружия; они тотчас делаются
такими же опасными разбойниками, как и жители пустыни. Они считаются лучшими из
всех аймаков всадниками и воинами и состоят частью на служб у Герата или у
Меймене, частью же вступают в союз с тем или другим туркменским племенем,
замышляющим сделать более значительный набег (рацциа). После одного из подобных
набегов джемшиды были насильственно переселены на берега Оксуса хивинским ханом
Аллакули, который победил находившихся в союз с ними сариков. На Оксусе они
оставались более двенадцати лет. Плодородие их нового отечества сделало их
зажиточными, но вскоре в них пробудилось желание снова увидеть родные горы и
потому, пользуясь смутами, вызванными войною хивинцев с туркменами, они забрали
все свое имущество и бежали, не заботясь о преследовании, через Хезаресп,
Чардшуй и Меймене, к берегам Мургаба. К ним присоединилось 1000 с лишком
персидских невольников, надеявшихся бегством приобрести себе свободу; но
невольники эти снова были предательски захвачены в Мургабе и проданы в Бухару.
Хотя джемшиды из всех иранских племен востока и запада вернее прочих сохранили
воинственный дух древней Персии, тем не менее, нравы их и обращение с
чужестранцами, с которыми они уже давно находятся в сношениях, далеко не так
грубы, как у соседних с ними туркменов. Даже самый убогий джемшид, не смотря на
всю свою дикую наружность, вежлив, однако, в словах и манерах; в нем резко
выдаются все светлые и все тёмные стороны иранского характера и поэтому нет
ничего удивительного, что в обычаях этих кочевников мы встречаем весьма много
такого, что очень живо напоминает нам времена до исламистские. Ислам, еще менее
у них укоренившийся, чем у других туранских народов, служит им не более, как
покровом, прикрывающим столь многие воззрения Зороастровой религии. Так,
например, огонь у дшемшидов уважается более, чем у таджиков; дверь шатра у них
всегда обращена к востоку и понятие о добром и злом дух столь обще, что низший
класс, особенно же женщины, закалывая овцу или козу, всегда бросают известные
части животного, считающиеся у других кочевников лакомыми кусками, злому духу, и
эти части, считаемые нечистыми, съедаются только собаками. Замечательно, что
между ними в ходу такие же басни о мнимых развалинах в Мартшахе, как у иомутов—о
древних остатках построек в Мешди-Мисрияне. По их сказаниям, Мартшах был будто
бы в древние времена каабою всей страны, пока не явились туда злые туркмены и не
разрушили всего. Вот все, что мог я сказать о чихар-аймаках. Какое имя они
носили прежде — я не мог узнать, не смотря на все разведывания. По всей
вероятности они причислялись к таджикам, но теперь они отличаются от последних и
образуют вторую ступень иранского племени в его распространении к
северо-востоку.
с) Таджики,
которых называют остатками
первоначального персидского населения Средней Азии, теперь встречаются в
наибольшем числе в бухарском ханств и Бедахшане. Кром того, их много еще в
городах Коканда, Хивы, Китайской Татарии и Афганистана. Хотя вследствие различия
климатических и социальных условий, среди которых живут таджики, местами и
встречаются незначительная уклонения в их наружных физиономических особенностях,
и хотя, напр., таджики, живущие в Бухаре и афганских городах, имеют более
сходства между собою, чем с бедахшанцами или своими соплеменниками в Китайской
Татарии, но все же у них ясно заметны главные черты общего типа. Они обыкновенно
среднего роста, с широкими, крепкими костями и особенно широкими плечами. Лице
их, которого иранский тип с первого взгляда бросается в глаза, продолговатее,
чем у турок, но по широкому лбу, толстым скулам, толстому носу и большому рту
можно заключить, что эта самая веточная отрасль иранского семейства имеет как в
Физиономии , так и в строении тела, много чуждого, т. е., туранского, и потому
ни в каком случае не может считаться первоначальным типом иранской расы, как
думает г. Ханыков. Основываясь на сказаниях Вендидад и греческих историков,
нельзя сомневаться в том, что отечеством нынешних таджиков была знаменитая в
древности Бактрия и Согдиана — это древнейшее средоточие иранской
образованности, колыбель религии Зороастра, источник героических сказаний Ирана.
Мы согласны, что они уже в самой глубокой древности были оседлыми обитателями
этой страны, ибо древний Хорассан, простиравшийся до Китайской Татарии, был, как
доказывает топографическая номенклатура, основан и заселен иранскими колониями;
но можно ли при этом упустить из вида постоянный прилив скифско-турецких
элементов, направлявшийся в Среднюю Азию с долин Алтайского горного хребта, из
этой, так называемой «officina
gentium» древних
времен, от 700 г. до Р. Х. по 400 г. после P. X.? Ни одна страна, лежавшая на
главном пути этих переселений от Яксарта до Евфрата, не осталась свободною от
примеси чуждой крови и как северная половина Ирана (теперешние округи Меймене,
Андпиой и западные склоны порапамизского хребта) не сохранила своего
первоначального племенного единства, так точно не могли сохранить этого единства
и иранцы, жившие за Оксусом. Только одни горные жители Бедахшана, именно
фаханцы, в имени которых ученый автор статьи «Central Asia« в «Quarterly Review»
(июль, сентябрь 1866 г.) думает найти происхождение греческого (неразборчиво) не
менее доступной своей отчизне наиболее сохранили свое племенное единство, ибо
все виденные мною фейцабады имеют более резкие признаки иранского типа, чем
таджики и даже язык их более свободен от туранских слов и оборотов. И если можно
предположить, что народ, живущий совершенно изолированно, в состоянии сохранить
в течение нескольких веков свой первоначальный тип, то самыми чистыми остатками
древних восточных иранцев мы можем считать единственно фаханцев, а не таджиков.
Что касается названия таджиков, то я всегда замечал, что сами таджики никогда не
употребляют его, ибо, хотя оно и не считается у них прямо пoносным словом, они
привыкли разуметь под ним выражение того презрения, с которым завоеватели узбеки
смотрят на подчиненных туземцев. Под словом таджик татарское население
Туркестана разумеет человека унижающегося, скупого, корыстолюбивого (Невольники
готовы лучше провести десять лет в доме узбека, чем пять лет у таджика, так как
последний старается всевозможным образом эксплуатировать их) хитрого, хвастуна,
одним словом все, что представляет противоположность с узбекской откровенностью,
прямодушием и честностью. Впрочем, отношения эти встречаются всюду между
туранскими завоевателями и иранскими подчиненными народами, ибо как последние в
Персии стоят много выше турок по духовным своим преимуществам, так точно то же
самое видим мы и в Средней Азии, и Бухара только потому сделалась средоточием
среднеазиатской цивилизации, что там с древнейших времен таджики составляли
преобладающее большинство населения, которое, продолжая следовать культурным
стремлениям до исламистского периода, хотя и было лишено владычества, не
перестало однако играть роли цивилизаторов по отношению к своим повелителям. Как
в первые века, по принятии ислама, на поприщ религиозных знаний и философии
отличались более всего таджики, так и теперь еще в Бухаре, Коканде и Кашгаре
известнейшие муллы и знатнейшие ишаны принадлежат именно к этой национальности.
При бухарском дворе, не смотря на узбекское происхождение хана, первые министры
и высшие сановники бывают исключительно таджики, и даже в диком узбекском
хивинском ханств мехтер (государственный секретарь), т. е. тот сановник,
которого должность всего более требует умственного развития, избирается
исключительно из тамошнего персидского населения. Удивительно, что таджики, не
смотря на то, что они уже несколько столетий живут вместе с узбеками, отличаются
от них не только своими индивидуальными качествами, но даже и домашними
обычаями. Пословица говорить: «смотри на узбеки на коне, а на таджика в его
доме.» Всю ту заботливость, с которою первый относится к своему коню, оружию и
сбруе, последний посвящает дому и одежде. Таджик, не смотря на всю свою
бедность, всегда хочет казаться не тем, что он есть на самом деле, и потому,
дома в свой семье он скуп и умерен, в обществ же почти всегда старается играть
роль богача и щедрого человека. Не менее изыскан и самый его разговор: выражения
вежливости и комплименты, им употребляемые, хотя и отзываются чем-то татарским
для уха, привыкшего к персидской тонкости, но, тем не менее, сравнительно с
узбеком, его можно считать истым джентльменом. Предназначенные природою к мирным
занятиям, таджики выказывают всюду склонность к земледелию, торговле,
промышленности и ненавидят войну, а когда поневоле берутся за оружие, то редко
бывают храбры, а жестоки — часто. Они также не обладают тем чувством
национальности, которое так часто проявляется у узбеков Они, хотя и живут всегда
вместе, но это более происходить вследствие необходимости во взаимной поддержке
у притесняемой расы, чем вследствие особого стремления к поддержке своей
национальности, и если они когда и выказывают желание чем-нибудь похвалиться,
что, впрочем, видно только в город Бухаре, то обыкновенно указывают с гордостью
только на свое арабское происхождение. Неосновательность этого последнего
уверения достаточно уже доказана г. Ханыковым (стр. 88 и 89). Он производит
слово таджик от слова таджа — головного убора огнепоклонников, который доселе
носят гебры. Поэтому, как уверяет он, таджик есть имя, которым магометане
тогдашнего времени называли последователей Зороастрова учения, или же которое
эти последователи дали сами себе, ибо слово тацик гуцварешском язык и
слово таци на персидском, значащее араб, не имеет с первым ничего общего.
Удивительно только, что слово таджик встречается и в Западной Азии, а именно
армяне называют таджиками турок и арабов, т. е. вообще магометан, но только
между собою, по секрету, и мне кажется, что это не более, как насмешливое
прозвание, даваемое притесненными своим тиранам. Так как название это я встречал
решительно у всех армян Малой Азии, то мне кажется, что этим именем называют не
только магометан, но вообще всех последователей иных религий и что это слово, по
всей вероятности, древнее и в последствии уже с древних обитателей Персии, с
которыми при Сассанидах армяне находились в сношениях, перенесено на арабов. Что
название таджик, которого г. Ханыков не находит у арабских историков первых
веков, исламизма, существовало в Средней Азии уже в весьма раннюю эпоху — это
всего лучше доказывает уйгурский манускрипт, «кудатяу билиг» (счастливое
знание). Этот манускрипт помечен 465 годом гиджры и мы часто находим в нем слово
таджик, в противоположность слову турок. Названное сочинение, о котором Жобер
говорил в 1825 году «в Joarnal Asialiqae», есть уйгурский перевод, или, лучше
сказать, переделка с китайского, ибо сами турки всегда первоначальных жителей
Транс-Оксании называли сартами. Происхождение этого последнего слова мне
совершенно неизвестно; его употреблял уже знаменитый Мир-али-Шир во времена
султана Музеин-Мирзы-Байкера, называя в своем трактат «о персидском и турецком
языках», первый язык всегда сарт-тили, а не таджик-тили. Поэтому слово сарт
можно основательно принять за турецкое название таджика. Правда, узбеки иногда
полагают разницу между сартом и таджиком, разумея под таджиками людей, только в
недавнее время поселившихся между узбеками и вполне сохранивших свое иранское
наречие, преимущественно бухарцев, а под сартами — уже давно осевших жителей по
большей части переменивших свой родной язык на турецкий, напр., как мы видим это
во всей Хиве и в северной части Коканда. Хотя я не разделяю мнения о различии
между таджиками и capтами, но не могу не признать, что сарты вообще отличаются
от таджиков даже некоторыми физиономическими особенностями. Они сложены
несколько стройнее, имеют более продолговатое лице и более узкий и высокий лоб;
по это должно приписать тому обстоятельству, что они часто вступают в браки с
осевшими в Средней Азии освободившимися персидскими невольниками, чего таджики
никогда не делают
XVII
Литература в Средней Азии.
«Татарская муза! Узбекская
Мельпомена» Эти слова, вероятно, для многих звучать очень странно. Многим
покажется удивительным, что в древнейшем средоточии грубости и варварства можно
встретить поэзию, что там, где господствуют во всей силе разбои, убийства,
грабежи — занимаются литературою. Но такое удивление было бы неосновательно, так
как восток искони был страною поэтических грёз, и чем более общественная жизнь
сохранила на себя отпечатка первобытности, т. е, чем юнее цивилизация, тем общее
склонность к поэзии и басне, тем сильнее страсть к сверхъестественным гиперболам
и вымыслам. Поэтому никто не должен удивляться тому, что у обитателей киргизской
палатки более наклонности к поэзии, чем у членов образованного общества в Париже
или Лондоне. У нас поэзия более или менее свойственна только известному возрасту
и из кастальских источников черпают только немногие люди. В Средней же Азии и
влюбленная молодая чета, и люди, согбенные старостью, точно также как воины, и
пастухи, духовные и светские лица — все одинаково увлекаются поэтическим
творчеством. Каждый, пытается слагать стихи и выдумывать сказки и если это
удается не каждому, за то любовь к слушанию творений других людей можно
положительно назвать здесь всеобщею. Так как литература на восток стоит в тесной
связи с религией, то мы должны разделить произведения ума обитателей Средней
Азии на два разряда: на а) литературу исламистских или оседлых народов, и на б)
литературу кочевников. Это различие начинается с того времени, когда, со
введением ислама, мало-по-малу распространились и литературные понятия, которые
теперь, утратив особенности национального характера, в ходу у различных
магометанских народов. Поэзия — эта существенная часть литературы — теперь почти
одинакова у турок, арабов, персов и жителей Средней Азии. Напрасно стали бы мы
искать в ней национального отпечатка: везде вы встретите одно и то же живое
воображение поэтов, одни и т же метафоры и параболы, везде стереотипные образы
розы и соловья, ресницы подобные шипам, густой пар вздымающихся вздохов и т. п.,
— всюду одна и та же муза, о которой г. Ханыков справедливо говорит: «Она
поднимается дико и свободно, подобно тем странным растениям, которые встречаются
на соленой почв Южной Азии. Покрытый колючками и шипами, облепленные солью, они
через свою морщинистую кору, распространяют ароматический, благотворный запах и
носят на своих полусухих стеблях изящные и яркие венчики цветов». (Ср. «Journal
Asiaüque» отдел 6, V, 297). Поэтому мы не станем говорить об этой литературе,
достаточно известной по многим переводам и научным статьям, мы пройдем также
молчанием религиозную литературу некоторых чересчур ревностных последователей
ислама, которые, возносясь будто бы духом к Богу и пророку, написали целые тома,
исполненные напыщенных мыслей о предмет своей любви и преданности. Эти последние
произведения в трех ханствах должно считать исключительно принадлежащими муллам
и ишанам. Хотя народ и терпеливо слушает чтение этих произведений, но они никого
не воодушевляют, потому что мистический образ мыслей и напыщенный язык
недоступны пониманию народа. Поэтому, все, что мы хотим сказать о литературе
Средней Азии, ограничивается, собственно говоря, одною народною поэзией. Здесь
мы еще находим нечто оригинальное, несколько типов, заслуживающих названия
собственно туркестанских, и с ними-то мы хотим познакомить наших читателей.
Всего более поэтического настроения замечаем мы в хивинском ханстве. Эта часть
Средней Азии уже в начал 12-го века прославилась особенною способностью к
музыке, хорошими голосами, замечательными поэтами и поэтессами. (Не более, как
50 лет тому назад при дворе Каджаров в Тегеране весьма славились хивинские
игроки на лютне). В Бухаре только до времени преобладания турецких элементов
было несколько поэтических знаменитостей, каковы, напр., Рудеки и Фигани,
которых, однако же, скорее должно отнести к персидской литературе. Относительно
же Хивы я должен заметить, что меня всегда сильно поражало, когда случалось
слышать какого-нибудь неуклюже одетого узбека, с дикими, загорелыми чертами
лица, поющего нежную мелодию; точно так же страсть к пению поражает
путешественника у туркменов и у киргизов. Для этих людей музыка и поэзия —
величайшее удовольствие после счастливого набега; как бы ни были утомлены и
голодны эти хищники, они все-таки с большим удовольствием остановятся послушать
повстречавшегося на дороге бакши (трубадура). Возвратившись с разбойничьего
набега или с других геройских подвигов, молодые воины обыкновенно целую ночь
проводят за поэзией и музыкой. В пустыне не знают почти никаких приятностей
жизни, но бакши всегда найдется; кроме того, хотя бакшей в пустыне и много, и
сами кочевники занимаются поэзией. Уменье подобрать рифму считается признаком
образования и молодая дочь пустыни всегда предпочтет того из своих обожателей,
который ответит удачными приёмами на её рифмованные вопросы. Поэзия узбеков
состоит прежде всего из рассказов, относящихся или к религиозной жизни или к
славным подвигам героев. Первые приноровляются муллами или более образованными
бакши к местному вкусу и заимствуются из арабскоперсидских источников, а
последние суть чисто татарские произведения, отличающиеся иногда жгучим языком и
удачными метафорами. Рассказы о подвигах героев, по форм похожие на наши
романсы, бывают довольно больших размеров; они часто декламируются или поются по
нескольку вечеров сряду и, хотя ислам играет иногда в них важную роль, но
преимущество отдается тем произведениям, в которых туземные герои действуют на
известном всею историческом поприще. Образцом последнего рода произведений может
служить одно, пользующееся теперь большою популярностью в Средней Азии. Оно
называется: Атмед и Юссуфе и представляет историю двух сыновей героя, которые,
moге
patria, уже в ранней юности предпринимают хищнические набеги против еретического
Ирана, причем побудительною причиною представляется не столько страсть к
приобретению сокровищ, сколько наказание неверных шиитов. История начинается с
того, что Юссуф увещевает своих героев, собравшихся в поход следующим образом:
«Негодяя никогда к себе не приобщайте, потому что он выдаст самые сокровенный
ваши тайны. Не говори о тайне твоей в дурных местах, потому что тогда она
перестанет быть тайною. Лучше голый лист, чем лишенная прелестей роза. Лучше
сухая земля, чем ни к чему негодный злак. Лучше палка, чем неразумный спутник.
Ибо он открывает твоим врагам направление твоего пути. Никогда не наставляй на
путь глупца (мужика), ибо он, сам не сознавая того, все-таки попадет в яму
несчастия. Когда входишь гостем к негодяю, то он, подобно маленькой собаке,
нападет на тебя и обнаружит свой порок. О, я желал бы быть жертвою пред образцом
истинного героя! Он извлекает свой меч только на погибель неверных. С трусом не
ходите на врагов, потому что он обнаружит вместе со своими и твои следы.»
Юссуф-бег говорит: «Теперь наступило такое время. Это отечество для нас, друзья,
более, недоступно. Глупцы не знают своего собственного положения, они говорят с
гневом и выказывают свой злой язык». Герои отправляются, молва об их подвигах
распространяется далеко и, разумеется, достигает их отчизны. Там господствовали
в то время мелкие князья, из коих один хочет принять к себе на службу этих
знаменитых воинов. Такова обыкновенная карьера военного ремесла и Юссуф
принимает предложение, но только с согласия своих товарищей по оружию. Они снова
отправляются в поход против Гюзель-Шаха, правителя Испагани. Персидская хитрость
преодолевает узбекскую силу. Оба князя попадаются в плен и отводятся в оковах в
Иран. Несчастие вызывает тяжкую скорбь в сердце героя, и так как обращаться к
окружающим врагам было бы бесполезно, то он изливает свое горе перед окрестными
высокими горами и говорит: «Вы, покрытые снегом, цветистые горы, видели ли вы,
что со мною случилось? Я сделался рабом этих неверных; видели ли вы мое падение?
Моими слезами не трогается никто, одни только горы содрогаются от них. Видели ли
вы, как я должен был вступать сюда покрывая свою голову ударами кнута?
Невнимательны были мои сотоварищи, — увы, я плачу кровавыми слезами. Как я взял
с собою Ахмед-Бека и пришел сюда, видели ли вы? Кровь я пью, в этом мир слишком
велика скорбь моя. Неверные были на конях, а я шел пешком, видели ли вы это?»
Юссуф-бег говорить: «Моя внутренность сожжена, моя скорбь бесконечно. Как я
вступал сюда со связанными руками, повинуясь воле коня, видели ли вы это»? Его
бросают в тюрьму, где он находит себе товарища в изнывающем там же сунните, на
влекшем на себя гнев персидского царя за ворожбу и предсказания, и
благодетельную подругу в дочери тюремщика, которая влюбилась в него. До сих пор
описывались только битвы, геройские подвиги и религиозное рвение. С этого же
времени в историю вмешивается и любовь. Юссуф-бег оставил дома сестру и
возлюбленную. Первая, тщетно ожидая его возвращения, горько жалуется и
приглашает своих служанок распустить волосы в знак горести, а последняя, и в
разлуке пылая страстью к Юссуфу, посылает к нему с любовным посланием ручных
журавлей, давая им следующее поручение: «О, пять журавлей Юссуф-бега! Взвейтесь
и летите к городу N. Напрягите свои силы и перелетите горы. И увидав Юссуф-бега,
спешите назад, чтобы сокол не заприметил в открытом поле перьев на ваших
крыльях. Я бедна, благодаря моему сердцу. Летите же; выспросив его о здоровье,
спешите скорее назад. Я была некогда розою миров, но отлетел соловей дубравы
моей. Если мой друг жив, то спешите назад, бодро взмахивая крыльями. Если же
алые розы поблекли, если его жизнь погасла, если мой друг умер, то облекитесь в
траур и, плача, возвращайтесь назад. О Боже! восклицая, потрясите воздух
крыльями вашими, с мольбою обратите взоры ваши к небу! Летите от города Юргендш.
Взвейтесь и летите к городу
N.
Дождитесь верного известия и спешите назад. О, слышьте вопли Гюль-Асседи.
Передайте ему моего сердца скорбь. Ах, летите же к его могиле. Возьмите немного
праха для меня и спешите назад. Птицы с жалобными криками вьются над тюрьмой
своего несчастного господина, который замечает их и отсылает на родину с таким
поручением: «О, вы, вьющиеся волнообразными кругами в воздухе журавли. Летите,
передайте мое приветствие моему народу. О, вы, озирающиеся вправо и влево
журавли, летите, передайте мое приветствие моему народу. Высоко в воздух летит и
парит журавль. Утомляются его крылья на долгом пути. Здесь в темнице снова
движется скорбь моя. О, передайте же мое приветствие моим сродникам. Город
Харезм — мое отечество. Там остался мой друг и моя возлюбленная. Мою добрую, мою
дорогую, мою нежную, о, приветствуйте ее, мою мать, мою Каабу. На горе скорби
растут сосны высокие, высокие. О, молитесь за меня вы все, молодые и старые.
Мрачная осень наступила для меня; о, если бы распустилась снова почка жизни. О,
поклонитесь моей малой, бедной сестре. Поклонитесь той, которая кругом
озирается, поджидая меня с раннего утра. Которая пылом разлуки сжигает свою
внутренность. Которая, облекшись в траур, плачет, распустив волосы. Которая,
смотря на дорогу, горестно вздыхает: «он не пришел!» Которой сердце пусто и
мрачно от разлуки со мною, — мою дорогую подругу, разумею я, мою Гюль-Ассель; о,
поклонитесь ей! Ты прибудешь отсюда через день в Харезм, на пути пролетишь через
семь гор. Заметь себе, ты видел Юссуф-бега, о, журавль, приветствуйте трусливых
бегов от меня». Птицы улетают, герои же еще долго изнывают в темнице. Наконец их
приговаривают в смерти. Но чудесная сила суннитских святых спасает их.
Обращенное на них оружие притупляется. Персидский тиран обращает на это внимание
и приказывает привести к себе героев. Главным условием для получения свободы
Юссуфу предложено состязаться в импровизации с придворным шутом Кэтче, и, если
он превзойдет последнего в поэтической способности, то ему позволено будет
свободно возвратиться в отечество. Юссуф импровизирует с чрезвычайною смелостью.
Он воспевает хвалу не тирану, а самому себе, говоря; «Мой народ — прекрасный
народ. Его зима лето. Садовники возделывают его сады; плоды приносят его
деревья; в белых шатрах покоятся его старцы, кругом охотятся его юноши. Дружным
обществом живет его молодежь, в наслаждении и удовольствиях проводя время.
Быстры, как ветер, его кони: они оставят тебя позади. Высоко взлетают его птицы,
в гневе уносят он даже людей. И если бы когда дошло туда известие обо мне — в
один день оттуда придет целая армия. Из шести фунтовой проволоки сделаны тетивы
его луков. Справедливо правят его князья, пристрастие далеко от них... Слушай
меня, Гюзель-Шах, неверный; если я возвращусь сюда с тем, чтобы вести войну с
тобою, то знай, что один взмах руки убивает 100,000. Мечи народа моего из
Испагани. В его городах богатые рынки; его поля походят на тюльпановые клумбы.
Оленями, зайцами и соколами изобилуют его луга. Их щедродатели подобны Хатемам,
их вожди подобны Берамам. Они — Рустемы в день битвы, герои на поле сражения Я
невольник без силы, но неверным мало до этого дела. Без предопределения не
умирает и муха; не заставляй же меня напрасно лить слезы.» Он побеждает,
отправляется обремененный сокровищами в Юргендш и наконец счастливо достигает
отечества, где прием его описан в трогательных, в высшей степени поэтических
картинах. Повидавшись со своею возлюбленною и со своею сестрой, Юссуф пошел с
ними к своей матери, Лалахан, которая от многолетних слез почти потеряла зрение.
Ей приносят радостное известие, но она сначала не верит и говорит: «Сокрушила
меня моя тоска; неужели же я еще увижу тебя, дорогое дитя? Давно я сижу,
устремив жгучие взоры на дорогу и ужели, действительно, я еще увижу тебя, мое
дорогое дитя? Погруженная в скорбь, я только вздыхала по тебе, глаза мой
трепетно поджидают тебя. Весь мир хочу я обыскать, неужели я еще тебя найду, мое
дорогое дитя? Должна ли я, подобно соловью, запеть жалобную песнь, иди, подобно
Мансуру, подвергнуться истязаниям. Должна ли я, подобно Дширшису, проливать
кровавые слезы, найду ли я тебя опять, мое дорогое дитя? и т. д.» К ней приводят
Юссуф-бега. Он останавливается вдали и, услыхав сетования своей матери, в словах
еще более жалобных изливает пред нею свою скорбь по поводу злополучной их
разлуки. Мать узнает его по голосу. Вне себя от радости, она приветствует сына
следующими словами: «О ты, семь лет изнывавший в неволе, о ты, бальзам моего
израненного сердца! Заблистала звезда моего счастья, миновала ночь моих
страданий. О, князь моего народа и земли, ты Рустем, ты герой мира. Мой Юссуф,
мое блестящее солнце, мое утешение, сила моей жизни. Ты венец счастья моей
главы, ты украшение моей жизни. Своего сына обрела Иалахан; Всемогущий послал ей
свою милость. Прочь из груди моей всякая скорбь, всякая забота, ибо Юссуф, мое
дитя, воротился ко мне!» Вскоре затем совершается брак любящейся четы. Но
геройская кровь не дает покоя искателю приключений. Он снова собирает войско, в
которое вступают все народы Средней Азии. Он намерен отомстить Гюзель-Шаху. Его
оружие увенчивается успехом, персы побеждаются; Камбер, бывший некогда его
товарищ, освобожден и Юссуф со славою возвращается домой, обложив побежденного
следующею данью.
Требования Юссуфа от
Гюзель-Шаха.
«Он должен отдать мне весь
харадш города N. Он должен прислать мне 40,000 затканных золотом шелковых
материй в 40,000 шимхалов (тяжелых шелковых материй). Все получаемые им пошлины
и налоги он должен передать мне, так же прислать 40,000 роскошных одеяний,
40,000 боевых коней с золотыми седлами, 40,000 верблюдов самцов и самок, 40,000
молодых невольниц с золотыми поясами, 40,000 юношей с прекрасными глазами,
40,000 штук откормленного рогатого скота, 40,000 носорогов, на цепях, 4000….
обитых золотыми гвоздями, 40,000 серых соколов, 40,000 плетей с симметрически
вбитыми гвоздями, с серебряными ремнями и с украшенными золотыми блестками
рукоятками, 40,000 лёгких лошадей, 4000 лисиц, 40,000 благородных коней с
загнутыми дугою хвостами, 40,000 пехотинцев, 40,000 всадников, 40,000 молодцов,
вожатых для караванов, таких, у которых с голов ниспадают черные кудри и лице
покрыто родимыми пятнами. Он обязан дать мне 40,000 дев необычайной красоты и с
золотыми поясами, 40,000 шапок и 60,000 тюрбанов; также 70,000 овец и баранов с
двойными рогами должен он прислать, Юссуф-бег говорит: в скором времени, должен
он все это мне приготовить и 100,000 русских талеров и 10 блюд золота должен он
прислать.»
Таково вкратце содержание
одного из узбекских романов. Таких романов существует у них бесчисленное
множество и туземцы особенно любят эти произведения их литературы. Там и сям и
религию примешивают к храбрости. Герои берутся из мира ислама, как напр., в
рассказ о Зеркум-Шахе, где Али чудесным образом побеждает этого языческого
владетеля. Драна и обращает его в ислам. Здесь поэтическое изображение сражений,
по сил воображения, может соперничать с поэмами Ариоста и Боярди. Кром того в
романы эти входит иногда и история, как, напр., в бесчисленных сказаниях о
Эбу-Муслиме, полководце абассидов, впоследствии сделавшемся независимым
владетелем Хорассана и Харезма. Не смотря на значительную давность событий,
каждый узбек покажет в великой пустыне, отделяющей его отечество от Персии,
много мест, где некогда был лагерь арабского полководца, где он давал сражения и
совершал сверхъестественные героические подвиги. В заключение еще должно
упомянуть об эпопеях, воспевающих древних князей из дома Шах-Харезмиан. Как в
этих эпопеях, так и в тех, в коих воспеваются Мехемет-Эмин-хан хивинский н
Мехемет-Али-хан кокандский, можно найти много картин, указывающих на
национальное чувство и гордость узбеков, Вслед за этими, всегда очень длинными,
произведениями следуют более короткие поэтические произведения, имеющие
предметом любовь, мораль и героическую доблесть вообще, или же содержащие в себе
особые наставления: как владеть оружием и дрессировать лошадей, и указывающие на
обязанности хорошего воина. Это уже произведения не столько образованных
писателей, сколько простых граждан, бакшей по профессии, людей, не умеющих
читать и писать и заставлявших других записывать свою импровизацию, или же,
наконец, поэтические излияния женщин и девиц, снедаемых пламенем страсти. Я
вывез из Азии сборник подобного рода песней. Я нашел его, написанным на грязной
бумаге, дурным почерком, в переплет из грубой кожи, у одного бакши из туркменов,
который носил этот opus сиriosum, запрятанным в широких своих голенищах. В
сборник этом можно, действительно, найти много странного, если не изящного. Мы
приведем несколько образчиков под именами поэтов, из коих некоторые, кажется,
псевдонимы. Вот, напр., одно из этих произведений, в чисто восточном стиле
оплакивающее непостоянство и суетность света.
Аллах Яр.
1 ) Строить замки в этом мир
вещь бесполезная; под конец все обратится в развалины, и строить, поистине, не
стоит труда.
2) День и ночь истязая
каждого бедного странника, постоянно работать и напрягаться, по истине, не стоит
труда.
3) Друзья! мучить и тревожить
друг друга в этом мир из-за мимолетных благ, по истине, не стоит труда.
4) Из тщеславия и одного
удовлетворения своей страсти беспокоить больных и слабых, по истине, не стоит
труда.
5) Разорять страны ислама и,
истребляя, обнажать свой меч, по истине, не стоит труда.
6) Обременять налогами,
поборами, сотнею скорбей, забот, мулла хадши, да и весь мир мучить, по истине,
не стоит труда.
7) Как можешь ты, Аллах Яр,
выносить жизнь в этом мире; ты мучишься из-за того, чтобы погибнуть, — это, по
истине, не стоит труда.
Затем, вот любовные
стихотворения, напр:
Рефнак.
1) Однажды вечером пошел я к
моей подруге, ногами наступая тихо. Сладким сном спала дорогая. Я обнял ее тихо,
тихо.
2) Я взял поцелуй с её губ
и усладил им свою душу; я обвил её нежные бедра и поцеловал ее еще раз тихо,
тихо.
3) Я сказал: «поцелуй же
меня.» — «Как, тебе нестыдно?» отвечала она. «Откуда ты пришел, туда и иди
скорее, ступая ногами тихо, тихо.»
4) Я разыграл упорного и не
хотел идти. Она схватила мою руку и отодвинула меня. Наконец я увидал, что нет
иного исхода и потому пробрался дальше тихо, тихо.
5) Я пошел, но не выдержал и
снова воротился назад. «О, безжалостная, дай же мне» умолял я, «поцелуй тихо,
тихо.»
6) (Слишком своеобразно, чтоб
могло прийти по вкусу нам, европейцам).
7) Рефнак говорит: «так как
весь мир полон шуток и насмешек, то никто не порицай меня и читай это тихо,
тихо.
Мешреф.
1) Пламенем горит моя душа, а
подруга еще нейдет. Что я говорю, подруга? Возлюбленная моего сердца еще нейдет.
2) Вся моя внутренность
перегорела в пепел от любви к этой кипарисоподобной. Она так жестока, я не
прихожу ей на ум совсем.
3) Её кудри вижу я во сне и
в глубокой скорби просыпаюсь утром я. И от волос этих кудрей мое сердце всё-таки
не может оторваться.
4) Лейла и Мегнунь учатся у
меня любви, а моя милая, дорогая все-таки не обращает внимания на мою любовь.
5) Жизнь безумного Мешрема,
кажется, близка к концу, а бесстрашно порхающая все еще не думает обо мне.
Фуцули.
1) Твердо держись помочей
скромности, ибо нет ничего прекраснее, как быть скромным. Нескромный, заметь
это, никогда не уйдет далеко ни в этом, ни в том свете.
2) Не порхай, дорогая птичка,
слишком высоко в воздухе, а сядь на руку царя! Ибо слишком высоко летающий сокол
никогда не употребляется в жизни для охоты.
3) Требуй сокровищ только у
Бога; у него их большой запас, и если на твою долю придется даже только одна
капля, то и её будет довольно: она никогда не иссякнет.
4) На кого села птица
счастья, тот летит высоко даже без крыльев, а кому на долю выпал черный жребий,
тот едва может поднять свою собственную руку.
5) Будь всегда покорен и
сокрушен духом, ибо кто страдает жаждою золота, тот никогда не насытится.
6) Фуцули, ты живи в этом мир
только для дружбы. В лишенном дружбы сердц царствует зима и никогда не может
быть в нем лета.
Незими.
1) В субботу встретил я
кипарисоподобную милую мою, она сделала меня помешанным и скитальцем по свету.
2) В воскресенье я впал в
сумасшествие и повалился без чувств. Я увидел её лицо и принял его за светящую
луну.
3) Наконец в понедельник
раскрыл я тайну моего сердца ей, чьи глаза подобны нарциссам, щеки розам, а
брови — дуге.
4) Во вторник сделался я
охотником и пошел в поле (гулять). Но я сам сделался добычею охоты и пал жертвою
вечно недоступной.
5) В среду моя прекрасная
гуляла по лугу; соловей увидал ей лик и запел нежную песнь..
6) В четверг я сказал дорогой
моей: «О, послушай же моего совета, скрой же свою тайну от доброго и злого
света.
7) В пятницу наконец Незими
увидал вполне её красоту и досыта упился шербетом её розовых и губ.
Эти образцы хотя и не совсем
удовлетворяют своими поэтическими красотами нашему европейскому вкусу, но
достаточно доказывают, что среднеазиаты, не смотря на их грубые общественный
отношения, не смотря на вечные войны и разбои, и нужды все-таки поэтических
чувств и нежных выражений любви. Более значительные люди хотя и не пренебрегают
этими произведениями народной поэзии, но желают выказывать более утонченный
вкус, высшее образование и восхищаются произведениями древних персидских поэтов,
или книгами Неваи этого первого из джагатайских поэтов, выступившего в том
смысле совершенства, в котором остальные поэты магометанского образованного мира
приобрели себе известность. Неваи — ученик знаменитого шейха Абдуррахмана-Дшами,
бывший в разное время министром, полководцем и губернатором нескольких
провинций, представляет редкий поэтический гений и притом весьма плодовитый. Он
оставил после себя более 32 самостоятельных произведений по части поэзии,
истории, морали и логики, и хотя сочинения его проникнуты не среднеазиатским, а
чисто персидским характером, тем не менее нельзя не признать за ним той заслуги,
что он облагородил турецкое наречие Средней Азии. Приведем из его «Дивана»
несколько песен, которые и теперь поются в Средней Азин тем самым сложенным
напевом.
Неваи.
1) О сердце, приди, поищем
вместе любезную, поищем кипарисоподобную, серебристощекую.
2) Так как дорогую наших очей
высмотрел другой, то ведь и мы имеем глаза и потому поищем себе другую. 3) Она
услаждает взор людей только прахом смерти, к чему же томиться страстью? Поищем
же себе другую красавицу.
4) И если бы я не нашел
подобной себе милой повергающей весь мир в бедствие, то найду смиренную,
скромную, но сострадательную.
5) Поля и нивы мы обежим ради
дорогой, сад расследуем, луга обыщем.
6) Хотя желать полезно, но
желание не должно же остаться неисполненным; между большими и малыми, везде, где
только можно, мы поищем ее
7) О, Неваи, ты вечно будешь
искать ее; по этому, прежде, чем сойтись с нею, поищем терпения и твердости.
Неваи.
1) Вдали от дорогой сердце
подобно стран без царя. Страна без царя — как тело без души.
2) Что пользы в теле без
души, о, мусульманин? Оно подобно черной земле без душистых роз.
3) Черная земля без душистых
роз подобна темной ночи без лучистой луны.
4) Темная ночь, без лучистой
луны похожа н а мрак, в котором нет никакого источника жизни.
5) Мрак без всякого источника
жизни подобен аду, не имеющему райских лугов.
6) О, Неваи, так как
прекрасный причиняют нам столько мучений, то нет сомнения, что в разлук много
скорби, а в свидании нет ни малейшей помощи.
Из произведений Неваи хороши
еще: «Тшихарди-ваи», в котором он воспевает различные возрасты человека, потом
переделки известных романсов: «Фергад и Шиpин» , «Медшнун и Лейла», «Юссуф и
Зюлейка» и др., или наконец переложения в стихи некоторых сказок из «Тысячи
одной ночи», из коих самое удачное: «Принц Зейф-уль-Мулук». Для образчика
возьмем из него следующее:
Как Зейф-уль-Мулук
отправляется из города Тшин к морю.
1) Приди, рассказчик, поведай
нам, как царского сына постигла плачевная участь.
2)Рассказчик отвечал:
«поистине это не легко для меня, но меч горести рассекает грудь»
3) К отъезду принц приказал
все приготовить и осведомился сначала о город Катине.
4) Вскоре были получены удовлетворительные сведения и все имущество было
перевезено на корабли.
5) Все люди также сели на
корабли; вожди стояли наготове и снаряжено бело войско.
6) Тогда принц также
отправился на корабль, вверив свое тело искусству Божию (кораблю).
7) Кормчие открыли шествие;
за ними следовала бесконечная вереница кораблей.
8) Вот принц сидит в сладких
мечтах, с улыбкой на устах и с сердцем, свободным от всяких забот.
9) Так плыл он по волнам
шесть месяцев, тщательно, охраняя путь сторожевыми лодками.
10) Но скоро рок дал ему
почувствовать жало зависти и злобно восстал против него.
11) Море снова взволновалась
и препоясало своя чресла убийственным мечем.
12) Оно, разверзлось и дико
исторгнуло из него потоп, но со всех сторон полный потоков огня.
13) Каждое мгновенье рождает новые ужасы, каждое мгновение потрясает тысячи душ,
14) Свирепо вздымаются волны
и грозят мощными валами, кровожадною пастью свистят и шипят морские потоки.
15) Поднимается черный
ужасный ветер, горизонт покрывается непроглядным мраком и дикие стоны раздаются
с поверхности моря.
16) Солнечный день делается
мрачнейшею ночью! Какой ужасный день! Это картина последнего суда.
17) Куда ты ни взглянешь, не
видно ни единого человека; не видно даже руки перед глазами; все всюду покрыто
водою.
18) Беспрерывно качаются и
катятся солёные волны и поднимают корабли как будто на ноги.
19) Беспрерывно шумит и рычит
сердитое море и бешено вздымается из глубоких бездн.
20) Раздается удар, дико
вскрикивают твари; подумаешь, что это день воскресения мертвых.
21) В ужасной суматох один
корабль налетает на другой; они трещать и погружаются в морскую бездну.
22) Ломаются мачты, в куски
разлетаются доски; нет возможности спастись.
23) Эти сто кораблей, сказал
рассказчик, эти люди, это имущество.
24) Все разбивается о морской
берег; никакого следа не осталось на поверхности воды.
Литература, слабый очерк
которой мы представили на предыдущих страницах, распространена по всей области,
занимаемой оседлыми туркестанцами. По мере удаления от границ этой области в
степь, ислам все более и более слабеет и начинается переход от магометанской
цивилизации к древней шаманской. У киргизов, большею частью исповедующих ислам,
можно еще кое-где встретить поэтическое произведение, сложившееся в ханствах, но
уже экзотическим этим растениям предпочитаются туземные. Тамошняя народная
поэзия составляет переходный пункт от образа понятий одного общества к образу
понятий другого. Уже на расстоянии двух дней от берегов Яксарта, или к северу от
Аральского моря, бакши только тогда может благоденствовать, если у него есть в
запас стихи или рассказы чисто киргизского характера. Поэзию диких обитателей
степей можно назвать скорее странною и оригинальною, чем изящною. В ней иногда
встречаются удачные картины, а иногда одни только прерывистые восклицания и
отдельные стихи без малейшей связи. Так как там каждый человек — поэт, то и
всякое стихотворение недолго сохраняет свою оригинальность. К нему или
прибавляют новое или отбрасывают что-нибудь из старого, и только весьма не
многие не прибавляют к песне минутных впечатлений своей фантазии. Из любовных
песен киргизов Левшин приводит, на 380-й странице своей книги, одну маленькую
песенку, которая не лишена своего рода прелести:
«Видишь ли ты этот снег? Тело моей возлюбленной еще белее его.
«Видишь ли ты текущую кровь убитого ягненочка? Её щеки ярче еще.
«Видишь ли ты ствол этого сожжённого дерева? её волосы еще чернее.
«Знаешь ли ты, чем пишут муллы нашего хана? Ещё чернее их чернил её брови.
«Видишь ли ты эти раскаленные
угли? Еще большим огнем блистают глаза её ».
Он приводит еще другие песни,
состоящие из отрывочных изречений без всякой между собою связи, как напр.:
«Сокол бросился на уток, на стадо, на большое стадо. И я совсем болен и едва
думаю о пище». Или: «Там внизу есть высокая ель; на нее пал туман. Вчера она
позвала меня к себе. Когда-нибудь она придет сама поласкать меня, и т.| д.»
Такие отрывистые мысли встречаются более или менее во всех чисто на родных
стихотворениях восточных жителей; некоторые следы их можно даже найти у
венгерцев, как напр. «Три яблока с половиною; я пригласил тебя, но ты не
пришла», или: «Высоко летает журавль, прекрасно распевая: моя дорогая сердится,
ибо не говорит со мной, и т. д.» Сказок или рассказов о геройских подвигах,
изложенных в стихах или прозе, у кочевников очень много. В них преобладает более
литературный характер турецких племен южной Сибири, чем южных среднеазиатских
соседей; я слышал много сочинений киргизских бакшей, которые, с небольшими
вариациями и с некоторою диалектическою разницею, встречаются в недавно вышедшей
книг д-ра Радлофа: «Образцы народной литературы турецких племен южной Сибири». В
приводимых мифах и сказках ученый Шифнер находит следы буддистского влияния;
точно также нет сомнения, что многое из сказок (иртеги) теперешних киргизов
дошли к ним с дальнего юго-востока через Джунгарию, ибо направлявшийся с
юго-запада ислам никогда не мог твердо укорениться по другую сторону Яксарта и
конечно еще менее может укорениться теперь, когда с севера устремляется туда
прилив русского влияния. В заключение мы приведем еще сказку киргизов,
принадлежащих, по европейскому выражению, к малой орде, а по местному — носящих
название мангишлак-казаков. Сказка эта заимствована из книги Бронислава
Залесскаго, польского изгнанника, который девять лет провел в степи и по
возвращении в Париж в 1865 году напечатал ее там под заглавием: «La
vie
des steppes kirghizes»
История Кугула.
Человек на небt
немощен без Бога, на земле бессилен без лошади. Жил некогда один киргиз, по
имени Буруцгай. У него было много овец и лошадей, и ничего бы ему не доставало,
если бы Бог не отказал ему в детях. Одинок он был в преклонных летах. Он никогда
не совершал обычной молитвы, никогда не соблюдал предписанных постов. Однажды
его одолела скорбь, что у него нет семейства, и он решился посетить святые
места, в надежде, что Бог услышит его молитвы и даст ему сына. Он сковал себе из
железа обувь, взял в руки железную палку и таким образом отправился в путь. Он
шел и шел десять лет, а может быть и более. Так много, так много шел он, что его
железные башмаки совсем износились, а от палки остались только ручка. Наконец он
упал на землю и лежал распростертый. Велики были его страдания, потому что он не
мог ни встать, ни умереть. Вдруг явился перед ним святой муж, который, увидав
его лежащим на земле, и пожалев об нем, наклонился к нему и спросил, что с ним
сделалось. Буруцгай не мог издать ни единого звука; святой муж пал на колени,
прочел свою молитву и просил Всемогущего разрешить язык несчастного. Едва только
он кончил, как Буруцгай почувствовал, что силы его возвращаются и рассказал
святому о себе, кто он та кой и по какой причин покинул свой аул. Святой муж
немного отошел в сторону и молился до тех пор, пока Бог сказал ему: «ты угодил
мне; я исполню твое желание. Но зачем ты так заступаешься за Буруцгая; он ведь
не платит податей, не творит молитвы, не соблюдает постов; какое же могу иметь я
к нему сострадание?» «Боже», молвил святой муж, «впредь он будет ревностно
служить тебе и молиться, только не отвергай моей мольбы. Услышь ее и прими мое
поручительство за него.» На это Бог сказал: «Иди, верный служитель, твоя мольба
будет услышана, столько спроси у Буруцгая, чего он желает; желает ли он иметь
сорок сыновей или сорок дочерей, или же только одно дитя по моему собственному
благоусмотрению?» Святой муж вернулся к Буруцгаю. Он нашел его совсем
укрепившимся, стоящим на коленах, и с радостью воскликнул: «о Боже, я не солгал
тебе. Буруцгай ещё прежде, чем я erо снова увидел, принялся уже за исполнение
своих религиозных обязанностей»! И он передал ему слова Божии. Буруцгай отвечал:
«Что буду я делать с 40 девочками и 40 мальчиками? Если Всевышнему угодно
услышать мою молитву, то да дарует он мне одного сына и одну дочь.» Святой муж
благословил Буруцгая и передал Всемогущему его ответ. Буруцгай увидел, что
железные его сапоги стали снова совершенно новехоньки, и тотчас же пустился в
обратный путь к своей палатке. Когда он был уже близко от неё, ему казалось, что
он узнал свою степь, свои стада; он смотрел на все с искренней радостью. Тихо,
тихо ободряясь, он заметил, что со времени его ухода ничто не измени лось.
Буруцгай подошел к одному пастуху, чтобы спросить его, кто хозяин этих стад.
Пастухи не узнали его. Пост и труды истощили его, он похудел и постарел и одежда
его была в лохмотьях. «Что тебе за дело до нашего господина», отвечали пастухи,
«проходи ка своей дорогой.» И они пошли вокруг стада . Буруцгай дождался, однако
ж, их возвращения и снова спросил их. Пастухи прогнала его, как нищего, и не
хотели говорить с ним, пока он не назвал себя по имени. Тогда они посмотрели на
него внимательнее, наконец узнали его и рассказали, что его жена, которую он
оставил беременною, скоро родит и что в аул ожидают гостей. Затем, не дожидаясь
ответа Буруцгая, пастухи стремглав пустились бежать к жене Буруцгая и, увидав
ее, пожелали получить от неё сююндше (обычный подарок тем, кто приносит
радостное известие). Они получили этот подарок и возвестили своей госпож о
прибытии её супруга. Она сильно обрадовалась этому известию, а вскоре за тем
пришел и сам Буруцгай. Через несколько дней жена его разрешилась двумя здоровыми
и красивыми детьми — сыном и дочерью. Буруцгай был вни себя от радости и не мог
придумать, какое имя дать новорожденным, которыми Бог осчастливил его старость.
В то время, как он думал об этом, к нему пришел тот же святой муж и сказал: «Ты
назовешь своего сына Кугулом, а дочь Чанисбегою.» И Бyруцгай повиновался святому
мужу, который тотчас же удалился от него. Дети росли и хорошели. Прошло четыре
года, близнецы начали учиться стрельбе из особенно для них устроенного,
маленького лука. Кугул выучился отлично стрелять, прошла десять лет. В то время
случилось, что один могущественный султан давал пир. Во время пира он объявил,
что хочет поставить высокую мачту с золотою верхушкою и что тот, кто пронзит
стрелою эту верхушку, будет мужем его дочери. Тотчас явилась толпа соискателей.
Мачта была весьма высока, все стреляли поочередно, но никто, даже самые лучшие
стрелки степи, не могли попасть в золотую верхушку. Наконец выстрелил последний
гость и тоже не попал. Тогда султан воскликнул: «Все ли тут молодые люди из
степи? Неужели не осталось никого, кто бы пустил стрелу для получения руки
султанской дочери»?) — Есть еще один стрелок», отвечали ему, «это Кугул, сын
Буруцгая. Но он еще мальчик и ему только десять лет.» — («Все равно,» сказал
султан, «приведите его тотчас сюда.» Его пошли отыскивать в ауле. Он явился на
плохой лошаденке, в старой одежде, с луком за плечами. У него, впрочем, была и
хорошая одежда и хорошие лошади, потому что его отец был богат и ни в чем ему не
отказывал, но он желал явиться перед богатыми не иначе, как бедным и смиренным.
Жена султана, издали увидав Кугула, воскликнула: «этот будет моим зятем и никто
другой из присутствующих». Подойдя к мачте, Кугул не хотел тотчас же испробовать
свой лук. «Вас здесь так много», сказал он, «а я один и молод, и если я даже
попаду в цель, то, пожалуй, все-таки не получу руки султанской дочери» Султан
уверил его, что отдаст ему свою дочь, но только тогда, когда он сделает удачный
выстрел. Кугул прицелился и натянул лук так сильно, что его изнуренная лошадь
упала. Он несколько раз ударил ее кнутом и она наконец снова встала. Кугул
прицелился в другой раз и опять натянул тетиву. На этот раз лошадь только
подогнула коле на. Стрела полетела и попала прямо в середину золотой верхушки.
Кугул, утомившись от напряжения, слез с лошади, расседлал ее, лег на землю и,
положив голову на седло, заснул. Он спал три дня в своей убогой одежд на плохом
седле. Султан решил не отдавать свою дочь такому бедняку. Напрасно Кугул ожидал
посольства. Никто не приходил к нему и потому он стал придумывать средства как
получить обещанную ему невесту. Вдруг явилась перед ним женщина из домашних
султана и разъяснила ему, в чем дело. Кугул сказал ей: «иди к султану и скажи
ему, что я даю ему до завтрашнего полудня срок для размышления; если он к этому
времени не отдаст мне свою дочь с сорока навьюченными верблюдами и сорока
коврами, то я убью его и истреблю все его семейство». Женщин этой Кугул
понравился, она сочла его большим батиром (героем), поспешно воротилась в аул
султанский, рассказала о своем свидании с Кугулом султанше, которая пристала к
своему супругу, говоря, что Кугул сделается великим батиром и что если он не
сдержит своего слова, то навлечет на себя позор, чернее земли. Султанша говорила
еще много подобных слов, пока султан наконец не решился выдать свою дочь за
Кугула и велел его об этом известить. Кугул надел роскошную одежду, сел на
прекрасного коня и предстал пред султаном. Свадьба была отпразднована и, после
обычного пира, Кугул увез свою молодую жену домой в свой отеческий шатер. За ним
следовали сорок верблюдов с разными сокровищами, покрытые сорока коврами. Это
было приданое новобрачной. Когда они прибыли домой, с жены Кугула спало
покрывало (по обычаю киргизов), которое муж в первый раз приподнял в присутствии
своего отца и матери. Едва родители его увидели её лицо, они сделали ей много
подарков и скота и лошадей. Но как она не нашла в подаренных вещах своего
любимого цвета, то и не поклонилась им, в знак благодарности, в ноги. Старый
Буруцгай рассердился на это и гневно сказал: «Что за собака эта девка! Мы
сделали ей кучу подарков, а она не хочет унизиться пред нами, она не делает нам
даже обычного приветствия за это.» Она отвечала: «К чему мне ваши подарки, я не
нуждаюсь в них. Вы не дали мне самого лучшего. Позади стада идет рыжая кобыла,
которая по колено вязнет в песке; только она одна нравится мне. Ибо она родит
жеребца, который спасет моего Кугула от многих несчастий и будет конем истинного
воина. Дайте мне эту кобылу, она дороже всего и я ее предпочитаю всему.» — «Моя
невестка хотя и молода, но умна», сказал Буруцгай. Слова её понравились ему,
он помирился с нею, дал ей кобылу и молодая женщина упала в ноги родителям
своего мужа и сделала им обычное приветствие. Напротив палатки стариков была
разбита прекрасная палатка для новобрачных, которые и поселились в ней. Жена
Кугула приказала своим слугам беречь кобылу, как зеницу ока. Они выкопали
глубокую яму, выстлали ее травой и, поставив туда кобылу, тщательно за ней
присматривали и ухаживали. Ночью вокруг «мы зажигали огонь. Через сорок дней
кобыла родила меленького тёмно-рыжего жеребенка. Слуги тотчас известили об этом
свою госпожу и потребовали подарка за радостное известие. «Подождите еще сорок
дней, отвечала она, «ходите хорошенько за жеребенком, давайте ему есть и пить.»
Слуги повиновались и, когда пришло назначенное время, они снова пришли к своей
госпоже, которая сообщила им, что с этой минуты все они свободны и могут
отправляться куда угодно. Для молодого жеребца, напротив, был приготовлен
шёлковый аркан в 40 локтей; его кормили чистым ячменём, молоком и сушеным
виноградом, и он подрастал вместе с Кугулом. В это время хан (начальник
киргизов) посетил молодого Буруцгая и, увидав Чанизбегу, до того прельстился её
красотою, что без чувств упал на землю. Его привели в чувство и приготовили
обед. Все принялись за дело и начали резать мясо для мишоармака (киргизское
кушанье), Хан делал тоже. Но в то время, как его руки были заняты этим делом,
взоры его были устремлены на красавицу. Он воспылал к ней сильною страстью и не
мог оторвать от неё своих взоров. Он так .увлекся, что едва заметил, как, вместо
мяса, разрезал себе пальцы Через несколько минут, он это заметил и так стало ему
совестно, что он ничего не ел, и, чтобы не оскорбить своего хозяина, он делал
вид, как будто ел всех блюд, потом поспешно простился и воротился домой с
затаенною тоской в сердце. Едва прибыл он домой, как собрал своих родных и
друзей и стал советоваться с ними насчет того, как извести ему Кугула и овладеть
его женою и сестрою. Все сказали, что убить его нельзя, потому что он уже
великий герой. Все-таки придумали они другой исход. Они предложили отправить
Кугула против одной враждебной орды с приказанием привести царствующего там
хана, Живаго или мёртвого. Эта мысль понравилась влюбленному хану. Его уверили,
что посланный едва ли воротится даже через десять лет, а всего вероятнее
погибнет там. Тотчас же послали за Кугулом и передали ему приказание; он
возвратился в свой аул и рассказал жен о возложенном на него поручении. «Тебя не
за тем он посылает», отвечала она, «я хорошо знаю чувства его сердца. Когда он
был здесь, он воспылал страстью ко мне и к твоей сестре. Он хочет иметь нас и
потому отсылает тебя на погибель; но пока у тебя твоя лошадь, ты не погибнешь.
Возвращайся только скорее назад.» Кугул уехал, взяв с собою только своих слуг и
лошадь, и долго, долго ехал он по разным степям, пока наконец не достиг
вражеской границы. Десять лет, а может быть больше или меньше, ехал он, — я
наверное не знаю. Наконец его лошадь остановилась. Кугул стал понукать ее
вперед. Но животное вдруг заговорило человеческим голосом: «Не заставляй меня
идти вперед. Мы близко от неприятеля. Сними с меня узду и седло, я сама пойду
туда и посмотрю, как велико число врагов.» Кугул послушался лошади, которая
начала валяться по земле и от итого силы у неё прибыло более, что от самого
лучшего корма. Затем она поднялась, отряхнулась, заржала, обернулась в птицу и
полетела к облакам. Так летела она три дня. Наконец воротилась она назад и
сказала: «Врагов больше, чем у меня волос в гриве или в хвосте. Подумай
хорошенько, что тебе делать, сражаться или воротиться?» Кугул не устрашился. Он
оставил своих слуг, приказав им поджидать его. «Если вы услышите о моей гибели»,
прибавил он, «то отнесите это известие моей жене и моей матери.» Затем он принес
Богу усердную молитву о помощи и отправился. Враги окружили его, но он не
допустил одолеть себя. Его лошадь много помогла ему, ибо всякий раз, как враг
прицеливался в него из ружья, она превращалась в орла и взлетала с Кугулом
высоко под облака. Если ему угрожала стрела, жеребец обращался в воробья и
исчезал в траве, как маленький шарик. Наконец он перебил и извел всех мужчин
этого племени, взял с собою женщин, детей, скот и все имущество, привел их к
тому месту, где оставил своих слуг, приказал им отвести добычу домой, а сам
поехал вперед на своем верном жеребце. Долго ехал, ехал он. Наконец, однажды
вечером, конь его не захотел идти далее и стал, как каменный. Кугул сошел с него
и лег спать. К утру он проснулся, подошел к своему коню и увидал, что он горько
плачет. «Что с тобою, мой добрый конь», спросил Кугул, «о чем ты плачешь?» —
«Ах, как же мне не плакать», отвечал конь, «посмотри, вот место, где я когда-то
гулял на шелковом поводу; здесь был наш аул, а теперь не осталось никакого следа
— все разорено» и он снова заплакал. «Возьми мое седло и узду, дай мне отдохнуть
и собраться с силами; я хочу разузнать, кто это сделал и кто твой враг.» Кугул
снял с лошади узду и седло и она снова принялась валяться по земле и, когда
опять вернулся к ней её силы, подняла голову, глубоко вздохнула, своими
могучими ноздрями, припрыгнула, превратилась в птицу и взвилась на воздух. Она
летела так три дня, но ничего не видела и хотела уже воротиться, как вдруг
заметила в другой сторон аулы хана. Она направила туда свой путь, полетела над
палатками и над стадами и все увидала. Никто не понял, что эта птица — конь
Кугула; одна только жена героя угадала, что кто-то прибыл к ней, и очень близко,
и сообщила об этом своей сестре. Птица воротилась назад к Кугулу, рассказала
ему, что видела, как хан увез его жену и сестру, захватил его стада, заставил
его отца собирать навоз, а мать пасти овец. И конь снова начал плакать, Кугул
начал молить Бога помочь ему отомстить за этот позор. Он приказал коню тотчас
везти его к матери, которую скоро и нашел в степи, пасущую овец. Он бросился к
ней в объятия. «Зачем ты приветствуешь меня так», спросила старушка, «разве уж
не сын ли ты мой?» — «Если бы я и не был твоим сыном, то разве я меньше стою,
чем он?» — «О нет, во всей степи никто столько не стоит, сколько мой Кугул,»—«Разве
ты совсем не имеешь о нем известий?» — «Я не знаю, где он, хан послал его против
враждебного на рода и с тех пор я ничего об нем не слыхала. Только сегодня мне
кажется, что я слышала шум крыльев его коня, но я не знаю, действительность это
или же наваждение шетама.» — «А давно ли твой Кугул уехал?» — «Да, да, давно,
очень давно.» — «Но Кугул ведь я сам. Неужели ты не узнаешь меня?» — Старушка
посмотрела на него пристальнее, но она не узнала его и сказала: «Нет, ты не
Кугул, но если ты его товарищ, или если ты что-нибудь знаешь о нем, то говори,
но не обманывай меня, не мучь меня.» — «Я Кугул», вскричал сын, «Это мой конь
пролетел сегодня над тобою.» — Но старушка все еще не верила. Он спросил ее, не
имеет ли Кугул какого-нибудь родимого знака и мать отвечала ему, что у него
между плеч черное пятно величиною с ладонь. Тогда он попросил ее потереть ему
плечо, но старушка отвечала: «Я не могу, потому что овцы разбредутся у меня во
все стороны и хан побьет меня, а он ведь часто бьет.» — «Предоставь мне стеречь
стадо.» — Он начал настаивать и уверил ее, что если ее станут бить, то он
защитит ее. Наконец старушка согласилась, сняла его халат, приподняла рубашку и
хотела потереть ему плечо, как вдруг, заметив черное пятно величиною в ладонь,
бросилась к молодому человеку на шею и сказала: «Ты ной Кугул!» и зарыдала от
радости. — «Разве ты не узнала меня, моя родимая?» спросил Кугул, «неужели я так
давно уехал? Как же ты-то, моя бедная, дорогая матушка переменилась, ты
постарела и поседела; твои глаза покраснели от слез». И он в слезах обнял ее.—
«Я не знаю, дитя мое», отвечала мать, а давно ли ты уехал, не знаю также когда
хан напал на наш аул, когда он увел твою жену и сестру, завладел нашим
имуществом и сделал меня и твоего отца своими невольниками. Я все ждала тебя, но
я потеряла память, и теперь не могу уже сказать, сколько прошло времени со дня
нашей разлуки; знаю только, что давно, очень давно, как ты покинул нас.» —
«Успокойся, матушка», сказал Кугул, «дурные времена уже проходят и все опять
пойдет хорошо. Бог поможет мне. Воротись в аул, поторопись отвести домой овец,
не смотря на то, что теперь еще рано. Если тебя спросят обо мне, скажи, что я
недалеко, но не говори ни слова более.» Затем они простились и он ушел. Старушка
вернулась в аул. Но она идет не как обыкновенно, она бежит; она, которая, бывало
прежде едва могла нагнать овечку, теперь же гнала их за раз по три и по четыре
для доения: до того возросли её силы. Хан заметил это и сказал окружавшим его:
«Старая жена Буруцгая должно быть получила от своего сына хорошее известие;
посмотрите, как она бодра, — она, которая прежде едва могла двигаться.» Он
подошел к ней и спросил ее об её сыне. «Он здесь, он приехал», воскликнула
старуха мать, «и ты не будешь более мучить меня». Она говорила смело — до такой
степени от свидания с детищем сердце её было исполнено радости и надежды.
Хан побледнел от страха и
вскоре увидал и Кугула, который, верхом на своем славном коне, приближался к
своему врагу. Кугул остановился на некотором расстоянии и, не сходя с коня,
воскликнул: «Ты обманул меня, ты хотел избавиться от меня, чтобы увести мою жену
и сестру. Я думал, что ты поступаешь чистосердечно и тотчас же отправился по
твоему приказанию, как верный человек. Но ты ни что иное, как собака,
клятвопреступник, разбойник. Теперь мы с тобою посчитаемся. Но что толку, если я
убью только тебя одного. Тогда сказали бы, что батир Кугул убил лишь одного
хана. Поэтому собери все свое войско.» Хан попросил дать ему три дня сроку,
чтобы собрать свой народ. Кугул согласился на это и уехал. Хан разослал
приказания во все свои аулы, и собралось множество народа вокруг него. Кугул же
между тем молился Богу. В назначенный день он явился и сказал: «Ты мой хан, я не
хочу стрелять в тебя первый. Начинай ты» Хан выстрелил и промахнулся. «Я опять
таки не хочу еще стрелять», сказал Кугул, «собери лучших своих стрелков и
прикажи им стрелять в меня, и только тогда, когда они не попадут в меня, я стану
стрелять сам.» Лучшие стрелки хана выступили из рядов. Каждый из них по очереди
пустил по стреле в Кугула, но его лошадь превращалась то в орла, то в дрозда, и
защищала его от пуль, поднимаясь на воздух и от стрел, ложась в степную траву.
Напрасно, не могли попасть в него, Таким образом, Кугул давал стрелять в себя
три дня сряду. На четвертый день он сказал хану: «Хорошо же, так как ты мой
господин, то ты и твои слуги первые стреляли в меня. Теперь мой черед.» —
«Делай, что тебе угодно», отвечал хан. Кугул поставил лучшего ружейного стрелка
и двух стрелков из лука позади хана, за ними еще трех, а четвёртого в четвертый
ряд. Став напротив них, он сказал своему коню: «Верный мой конь, стой теперь
смирно и не подымайся в воздух, чтобы я мог одною стрелою пронзить их всех.»
Лошадь стала, как окаменелая. Кугул из всей силы натянул тетиву, стрела
полетела, пронзила стрелков, стрелков из лука и самого хана. Когда толпа
увидела, что хан пал мертвый, то разбежалась во все стороны. Кугул преследовал
ее одного настиг на лошади, другого, налетев на него сверху, и кого только он
настиг — все погибли. Наконец он остановился, воротился в свой аул, нашел там
своих родителей, жену и сестру и овладел всем имуществам хана. Между женщинами и
детьми, захваченными в добычу, находилась и ханская дочь, Кугул взял ее к себе в
качеств второй жены. Сестру свою Чанизбегу он отдал замуж за соседнего хана и
сам сделался ханом. Так кончается история. Старые люди говорят, что все это была
истинная правда, что все это совершилось в степях. Я ничего этого не видал, но
надо верить тому, что говорят старики.
Источник:
Москва. Типография A. И.
Мамонтова ул. Бодыпая Дмитровка, д. №7. 1868.
|